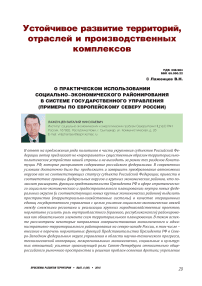О практическом использовании социально-экономического районирования в системе государственного управления (примеры по Европейскому Северу России)
Автор: Лаженцев Виталий Николаевич
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов
Статья в выпуске: 6 (86), 2016 года.
Бесплатный доступ
В ответ на предложения ряда политиков в части укрупнения субъектов Российской Федерации автор предлагает не «перекраивать» существенным образом территориально-политическое устройство нашей страны и не выходить за рамки тех разделов Конституции РФ, которые раскрывают содержание российского федерализма. В современных условиях достаточно было бы: продолжить и завершить преобразование автономных округов как не соответствующих статусу субъекта Российской Федерации; привести в соответствие границы федеральных округов и крупных экономических районов, что позволит расширить функции представительств Президента РФ в сфере стратегического социально-экономического и градостроительного планирования; внутри новых федеральных округов (и соответствующих новых крупных экономических районов) выделить пространства (территориально-хозяйственные системы) в качестве операционных единиц государственного управления с целью усиления социально-экономических связей между смежными регионами и реализации крупных народнохозяйственных проектов; нормативно усилить роль внутриобластного (краевого, республиканского) районирования как обязательного элемента схем территориального планирования. В таком аспекте рассмотрены некоторые направления совершенствования экономического и административно-территориального районирования на северо-западе России, в том числе - внесение в перечень нормативных функций Представительства Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе управления в области научно-технического прогресса, технологической кооперации, межрегиональных экономических, социальных и культурных отношений; усиление организующей роли Санкт-Петербурга относительно общероссийского рыночного пространства и решения проблем освоения Арктики; укрепление интеграционных связей внутри Двино-Печорской хозяйственной системы; объединение Республики Коми и Ненецкого автономного округа в единый регион - новый субъект РФ.
Районирование федеративного государства, соотношение федеральных округов и крупных экономических районов, межрегиональные территориально-хозяйственные системы, республика коми, ненецкий автономный округ
Короткий адрес: https://sciup.org/147111424
IDR: 147111424 | УДК: 338.984
Текст научной статьи О практическом использовании социально-экономического районирования в системе государственного управления (примеры по Европейскому Северу России)
В ответ на предложения ряда политиков в части укрупнения субъектов Российской Федерации автор предлагает не «перекраивать» существенным образом территориальнополитическое устройство нашей страны и не выходить за рамки тех разделов Конституции РФ, которые раскрывают содержание российского федерализма. В современных условиях достаточно было бы: продолжить и завершить преобразование автономных округов как не соответствующих статусу субъекта Российской Федерации; привести в соответствие границы федеральных округов и крупных экономических районов, что позволит расширить функции представительств Президента РФ в сфере стратегического социально-экономического и градостроительного планирования; внутри новых федеральных округов (и соответствующих новых крупных экономических районов) выделить пространства (территориально-хозяйственные системы) в качестве операционных единиц государственного управления с целью усиления социально-экономических связей между смежными регионами и реализации крупных народнохозяйственных проектов; нормативно усилить роль внутриобластного (краевого, республиканского) районирования как обязательного элемента схем территориального планирования. В таком аспекте рассмотрены некоторые направления совершенствования экономического и административно-территориального районирования на северо-западе России, в том числе -внесение в перечень нормативных функций Представительства Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе управления в области научно-технического прогресса, технологической кооперации, межрегиональных экономических, социальных и культурных отношений; усиление организующей роли Санкт-Петербурга относительно общероссийского рыночного пространства и решения проблем освоения Арктики;укрепление интеграционных связей внутри Двино-Печорской хозяйственной системы; объединение Республики Коми и Ненецкого автономного округа в единый регион - новый субъект РФ.
Районирование федеративного государства, соотношение федеральных округов и крупных экономических районов, межрегиональные территориально-хозяйственные системы, Республика Коми, Ненецкий автономный округ.
В годы реформирования политической, экономической и социальной систем той или иной страны актуализируются также и вопросы ее административного и социально-экономического районирования. В нашей стране эпизодически, как правило, перед выборами Президента или Государственной думы, ответственные лица сообщают свое мнение о необходимости укрупнения субъектов Федерации со ссылкой на целесообразность консолидации финансовых ресурсов для повышения уровня жизни населения1.
Действительно, сложившееся ныне территориальное устройство России можно рассматривать как проблемное, то есть в некоторых отношениях неудовлетворительное. Но «замыкаться» на укрупнении субъектов РФ означает неправомерно упрощать саму проблему районирования. Вместе с тем не следует искусственно усложнять данную проблему, заведомо ставя ее в неразрешимое положение.
Основным в территориальном устройстве нашей страны был и остается район областного (краевого, республиканского) ранга. Областной район есть результат синтеза многих географических и социально-экономических процессов: общественного разделения труда и товарного обмена между промышленностью и сельским хозяйством, городом и деревней, центром и периферией; борьбы между городами за функцию центрального места и властные полномочия над округой; уплотнения экономического простран- ства и создания плацдарма для экономической и политической экспансии; сосредоточения образования, науки и культуры.
Расположение городов-центров областей (краев, республик) к настоящему времени уже определилось, сформировалось пространство экономического тяготения к ним; абсолютное большинство из них не имеет конкурентов с претензией на такой же статус. Изменения границ областей, краев и республик происходят очень редко и касаются не более чем одного-двух муниципальных районов. Существенно и то, что у людей сложилось самоопределение по принадлежности к конкретной земле (вологодской, поморской, вятской, ярославской, рязанской, забайкальской и т. д.).
Потребности людей возвышаются в большей мере в части здоровья, образования и общих условий жизнедеятельности, прежде всего инфраструктурных и экологических. Поэтому необходимо обратить особое внимание на основную миссию областного района – создание условий для развивающегося населения. Именно эта сфера государственного управления имеет весьма существенные недостатки, особенно в части низкого качества пространства жизнедеятельности: диспропорции в размещении производства и, соответственно, рабочих мест; дезинтеграция рыночного пространства страны; усиливающийся экономический разрыв между городом и деревней; чрезмерная концентрация капитала и интеллектуальных ресурсов в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных мегаполисах и центрах в ущерб периферии. Огромные площади уже заселенных и обжитых мест характеризуются как дискомфортные: опустынивание и заболачивание земель, эрозия почв и грунтов, дисбаланс гидрологического режима рек и озер, опасная для жизни высокая территориальная концентрация техники, производства и людей, чрезмерная дифференциация по уровню жизни населения, изнуряющие поездки на работу и обратно, угрожающая здоровью людей плохая экология мегаполисов и поселений с природной и производственной патологией.
Безопасность развития северных территорий подорвана к тому же утратой большей части сельскохозяйственных земель, сменой лесообразующих пород, нарушением естественных циклов воспроизводства таежных и тундровых геосистем и соответствующим исчезновением экономических основ традиционной сельской жизни, засорением мест добычи полезных ископаемых, селитебных, особенно городских, и рекреационных территорий, отсутствием соответствующего уровня инженерно-геологического, геофизического и медико-биологического мониторинга.
Исследователи, изучающие регионы разных хозяйственных типов, отмечают общую противоречивость их пространственного развития. С одной стороны, наблюдается чрезмерная социально-экономическая дифференциация низовых районов и поселений, с другой – общие экономические успехи во многом связаны с развитием городских агломераций, что еще более усиливает такого рода дифференциацию [8].
Устранение большей части перечисленных недостатков пространственного развития является задачей региональных правительств и муниципалитетов. Им принадлежит ключевая роль в организации жизнедеятельности людей.
В контексте нашей статьи необходимо подчеркнуть «нерушимость» границ, например, Мурманской, Новгородской, Псков- ской, Калининградской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (вместе взятых). Однако нельзя обойти вниманием и исключительные обстоятельства, когда речь идет не о слиянии в один административный субъект равнозначных по статусу регионов, например Ярославской и Костромской областей или Чувашии, Мордовии и Марий-Эл (разговоры на эту и ей подобные темы ведутся, но не имеют социально-экономических обоснований), а о месте тех самых автономных округов, которые по причине политической, экономической и социальной целесообразности должны стать частью областного (краевого, республиканского) района. Именно по этой причине желательно рассмотреть вопрос о таких районах областного ранга, как Архангельская область без Ненецкого автономного округа и Республика Коми с Ненецким автономным округом. Аналогичным образом может быть восстановлена Тюменская область с включением в ее состав Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а на северо-востоке – Магаданская область вместе с Чукотским автономным округом. Решающее значение имеет научно-технический, социально-экономический и административно-управленческий потенциал районообразующих центров, например Тюмени и Магадана, но не ресурсы полезных ископаемых, сколь бы значительными они ни казались в настоящее время.
Границы районов областного ранга и транспортная сеть, связывающая их центры, определяют административноуправленческий и социально-экономический каркас нашей страны на относительно длительное время и во многом – содержание стратегического пространственного планирования. Как бы «ни перекраивалась карта нашей страны», район областного ранга должен быть сохранен в любом статусе, но предпочтительно в статусе субъекта Федерации.
От областных районов экономическое районирование получает «разверстку» вверх и вниз; практически такое необходимо для управления либо национальной, либо региональной экономикой. От того, как организовано пространственное взаимодействие областных районов и муниципальных образований, зависит и эффективность исполнения функций федеральных, региональных и местных органов власти.
В связи с этим необходимо вновь актуализировать вопрос о границах и функциях федеральных округов. Впервые он был поставлен в 2000 году Э.Б. Алаевым [1], но не получил должного отклика со стороны федеральной власти. Не было реакции и на указание дублирования функций округов как структуры государственного управления и региональных ассоциаций как общественно-экономического взаимодействия областей, краев и республик [5]. C учетом накопившихся за последние 15 лет противоречий в территориальном устройстве России попытаемся еще раз отметить, что границы федеральных округов не соответствуют ни «старым», ни возможным новым крупным экономическим районам (КЭР), которые правомерно считались опорными образованиями в пространственной структуре народного хозяйства страны в целом, плацдармами реализации государственной политики в области размещения производительных сил и реализации «ключевых» национальных проектов.
Конечно, приведение федеральных округов (института президентской власти) в соответствие с КЭР (институтом общества и территориальной организации его производительных сил) является весьма сложным для понимания и практического восприятия. Здесь опасны крайности.
С одной стороны, имеется тенденция придать КЭР (или ему подобному району) статус административно-территори- ального образования с полным набором законодательных, исполнительных и судебных структур, то есть статус нового субъекта Федерации в виде губернии, края или земли. Для этого сложились определенные исторические предпосылки, связанные с районированием России по плану ГОЭРЛО в 1920 гг. В то время КЭР рассматривался как хозяйственно самостоятельная, по возможности экономически законченная (но не замкнутая) экономическая система, опорная база для создания новых (по отношению к капиталистическим), высших форм организации общественного труда, мощное звено народного хозяйства. По замыслу, такой район должен иметь внутреннее единство, обусловленное не отдельными аспектами жизни людей, а всей совокупностью источников и движущих сил общественного прогресса.
На такой теоретической платформе, в разработку которой наибольший вклад внес Н.Н. Колосовский, были предприняты попытки организовать КЭР в качестве и административно-территориальной единицы, и производственно-территориального комплекса. Именно такого рода территориальная организация общества представлялась одним из существенных преимуществ социализма. Но если этот опыт повторить, то не исключено, что опять возникнет опасность чрезмерной суверенизации экономически и политически самодостаточных районов2.
С другой стороны, неудовлетворительной считается ситуация, когда КЭР рассматривался лишь как единица сводной статистической отчетности, безадресной относительно государственного управления. Именно такое ущербное положение позволило как бы незаметно исключить КЭР из статистики, поставив на их место федеральные округа. Незаметно актуальный вопрос о соотношении крупных экономических районов и федеральных округов (по умолчанию) снят с «повестки дня», однако не исчезла сама проблема совершенствования территориального устройства страны «под государственное управление».
КЭР является практически необходимым районом и в качестве территориального образования однотипного природопользования. На это указывает пример Восточной Сибири, которую еще в 1960-х гг. В.А. Кротов определял по признаку особого типа хозяйства, характерного для Красноярского края, Хакасии, Тувы, Иркутской области, Бурятии, Читинской области и Якутии. И в настоящее время при решении комплексных проблем природопользования в связи с условиями жизни населения указанный состав Восточной Сибири рассматривается как вполне естественный [2]. Восточная Сибирь в таком составе вполне могла бы стать федеральным округом. Такая же ситуация характерна и для Урала. Как только актуализируется проблема рационального размещения производительных сил, так естественным образом Уральский экономический район возвращается в свои что было необходимо для организации программноцелевого планирования. Сейчас же процесс образования мегарегионов рассматривается в рамках общей социально-экономической политики данной страны [7]. Что касается угроз, то, действительно, необходимо принять во внимание и движение в сторону государственной самостоятельности на этнической основе, например в Канаде, Испании, Великобритании и некоторых других странах.
прежние границы в составе Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия [3].
Но суть вопроса проявляется не только в отдельных примерах. Генеральное экономическое районирование, совмещенное с федеральными округами, в принципе необходимо как способ территориальной организации производительных сил с учетом неравномерности пространственного развития нашей страны, угроз появления больших «мертвых зон», глобальности природных процессов, крупномасштабного освоения минерально-сырьевых и биологических ресурсов, районообразующей роли энергетики, транспорта и гидротехнических сооружений, выделения территорий опережающего развития (все это, по сути, составление нового Плана ГОЭЛ-РО с выделением ряда ключевых территориальных научно-производственных комплексов как единиц программно-целевого планирования).
В границах Северо-Западного федерального округа выделены два крупных экономических района – Северо-Западный и Северный. Но напомним, что ранее существовал один крупный экономический район (Северо-Западный). В 1982 году Госплан СССР счел целесообразным разделить его на две части, чтобы Ленинград и тяготеющие к нему области (Ленинградская, Псковская, Новгородская и Калининградская) «не заслоняли» специфику северных территорий (республик Коми и Карелия, Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, Ненецкого АО). Тем самым была выделена для того времени новая планово-статистическая единица с целью формирования природно-ресурсных баз общесоюзного значения и транспортно-производственных комплексов освоения и защиты Арктики.
Современный опыт управления в рамках Северо-Западного федерального округа подтверждает наличие тех угроз солидарному развитию, которые, как и ранее, связаны с неравенством отдельных частей крупного территориально-политического образования. Санкт-Петербург должен бы стать организующим центром большого Северо-Запада, но пока не стал, поскольку «развернут» в основном сам на себя и на зарубежные страны. Даже целенаправленные попытки представить Северо-Западный федеральный округ как единое пространство модернизации экономики по-прежнему оставляют за ним функцию «внешнеэкономического оператора Российской Федерации», что свойственно в основном Санкт-Петербургу, Ленинградской и Калининградской областям. Остальные регионы данного округа в такую функцию «не вписывются» и консолидируются по другим основаниям.
И все же заметим: Северо-Западный федеральный округ в сравнении с другими округами более соответствует принципам и факторам генерального экономического районирования. Именно эта пространственная данность РФ могла бы стать образцовой в организации интеграционных процессов. Поворот Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сторону российского рынка, в том числе северных регионов, в последние годы становится все более заметным, особенно в связи с решением арктических проблем.
Ради оптимизации социально-экономического пространства в составе крупных экономических районов и соответствующих новых федеральных округов целесообразно выделять межрегиональные территориально-хозяйственные системы. Они стали бы промежуточным звеном в деле укрепления пространственной интеграции, являющейся важным условием формирования единого рыночного пространства страны. В рамках Северо-Западного федерального округа такие системы – Санкт-Петербургская
(Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская и Псковская области), Калининградская (Калининградская область), Карело-Кольская (Республика Карелия и Мурманская область), Двино-Печорская (Республика Коми, Архангельская и Вологодская области, Ненецкий автономный округ).
Относительно последней системы – Двино-Печорской – необходимо отметить весьма существенную историческую подоплеку. Начиная с XIII века со стороны Великого Новгорода, а затем Москвы территория к северу от Вологды рассматривалась как нечто одинаковое: Заволочье, Биармия, Поморье и под другими именами. Позднее (с развитием Архангельска и Вологды) началось административное деление этой большой территории, но так, что слабоосвоенная земля зырян (коми) примерно поровну включалась в Архангельскую, Вологодскую, немного в Северо-Двинскую и Вятскую губернии.
После Октябрьской революции была оформлена Северная область (Союз коммун Северной области) с включением в нее Петроградской, Новгородской, Псковской, Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской и Череповецкой губерний. Северную область в указанном составе создали на первом съезде Советов Северной области в апреле 1918 года, на третьем съезде в феврале 1919 года – упразднили. В 1918–1922 гг. была установлена такая форма реализации плана ГОЭЛРО и НЭПа, как Экономические областные совещания (Облэкосо). Одно из них согласовывало планы развития Вологодской, Северо-Двинской и Архангельской губерний. В эти же годы изучался вопрос о более жестком их административном слиянии в одну область с внутренними округами. Такого рода поиски оптимальной административнотерриториальной единицы закончились созданием 14 января 1929 года Северного края, включая Коми автономную область (образована 22 августа 1921 года) и Ненецкий национальный округ (образован 15 июля 1929 года). В 1936 году край преобразован в Северную область (уже без Коми), 23 сентября 1937 года разделен на Архангельскую и Вологодскую области.
К вопросу о воссоздании Северного края плановые органы СССР и научно-исследовательские институты возвращались неоднократно в связи с проектированием Северной угольно-металлургической базы, созданием мощного лесопромышленного экспортного комплекса (золотовалютного цеха страны), формированием Двино-Пе-чорского ТПК. И в настоящее время территориальная группировка «Архангельская область, Вологодская область, Республика Коми и Ненецкий АО» рассматривается как оптимальная в системе макроэкономического моделирования и балансовых расчетов общероссийского значения [6].
В согласованном развитии Вологодской, Архангельской областей, Республики Коми и Ненецкого АО заинтересованы многие хозяйствующие субъекты. Однако заметим, что такой интерес реализуется пока вяло, ограничиваясь договорами о сотрудничестве, без создания общих институтов инвестирования и проведения крупных хозяйственных мероприятий [4].
Особо прочная общность сложилась между Республикой Коми и Ненецким АО. Именно здесь сформирована и развивается топливно-энергетическая и в значительной мере – минерально-сырьевая база СевероЗападного федерального округа. Геологический потенциал северо-востока Русской платформы в 5–6 раз выше, чем ее остальных частей. Общероссийское значение имеют Печорский угольный бассейн, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, Тимано-Уральский горнорудный регион.
Много общего у Ненецкого автономного округа и Республики Коми в распределении и использовании оленьих пастбищ с учетом сезонной миграции оленей через административные границы указанных субъектов Российской Федерации. Тундровое хозяйство арктических территорий находится под присмотром Союза оленеводов России, созданного в 1995 году, а на международном уровне – Ассоциации «Оленеводы мира». Сотрудничество в рамках договорных отношений между субъектами РФ, российскими и международными организациями в части оленеводства в настоящее время весьма актуально. В данном вопросе Республика Коми и Ненецкий АО выступают, как говорится, единым фронтом с целью преодолеть депрессивное состояние этой отрасли хозяйства и найти новые формы ее организации с учетом исторических традиций.
Биологи показали, что риски и угрозы развития сельского хозяйства в Арктике во многом связаны с неблагоприятной динамикой растительного покрова тундры. Метаболизм тундровых биосистем изменился к худшему в части прироста биомассы, зарастания значительных площадей мхов и лишайников кустарниковой растительностью, ускоренного процесса заболачивания. Наука актуализирует проблему кормовой базы оленеводства и подчеркивает, что ее решение должно опираться, прежде всего, на фундаментальные исследования тундры как уникальной природной геосистемы. Особую актуальность представляет вопрос о регулировании межрегиональных и межмуниципальных связей в области закрепления оленьих пастбищ за конкретными хозяйствами и создания единой системы контроля за их состоянием.
Ключевой проблемой развития сельского хозяйства арктических и северных регионов становится укрепление продовольственной безопасности и снятие угроз здоровью людей со стороны поставщиков недоброкачественных (хими- чески вредных) продуктов. Производство экологически чистой продукции является крайней необходимостью и может быть организовано именно на сельскохозяйственных землях тундровых и таежных территорий. Роль сельского хозяйства центральных и южных районов Республики Коми повышается еще и потому, что в балансовых расчетах в связи с арктическими программами необходим учет потребности в продовольствии Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Установлено, что в подзонах средней и южной тайги при рациональном использовании удобрений и хорошей агротехники можно получить с гектара по 300–400 ц картофеля, 500 ц овощей, 70 ц сена многолетних трав, до 30 ц зерна озимой ржи. Для этого необходимо вносить на гектар не менее 40–50 т органических удобрений. При интенсивном использовании сельскохозяйственных угодий передовые хозяйства получают ежегодно 400–450 тыс. т кормов в пересчете на кормовые единицы. Высоким конкурентным потенциалом характеризуются традиционные отрасли – рыболовство, охотничий промысел, сбор дикорастущих грибов и ягод. С продукцией этих отраслей северные регионы могут выступать не только на региональном, но и на национальном, а также международном рынках. Но в настоящее время первостепенной задачей является самообеспечение продуктами питания населения северных территорий, включая опорные арктические зоны.
Огромную роль в интеграции Республики Коми и Ненецкого АО играет река Печора. Ненецкий АО и Республика Коми – активные участники проблематики «Реки России». Ситуация последних 20 лет относительно содержания рек в гидрографическом порядке в нашей стране удручающая. Отсутствие речных мелиораций, дноуглубительных работ и обустройства берегов привело к зна- чительному ухудшению режима водотоков: более разрушительными стали половодья, увеличилось число миандр и затонов, «затянуло» фарватер, возникли непроходимые судами с 50–80 см погружением барьеры в русле рек и особенно устьях притоков. Даже на Печоре (второй по длине реке в европейской части России после Волги) сквозное судоходство стало весьма затруднительным. Вполне понятно, что такое положение снизило уровень и качество жизни большого числа людей, которые ранее считали свою деятельность именно речной. Весеннелетний завоз «в глубинку» стал возможен только на маломерных судах, поэтому его цена возросла в 1,5–2 раза. В 2013 году губернатор Ненецкого АО обратился с просьбой к правительству РФ провести дноуглубительные работы к северу и югу от Нарьян-Мара, иначе северный завоз «будет сорван». Аналогичные инициативы проявили правительство Республики Коми и судовая компания «Печорское речное пароходство». На отдельных участках реки водомелиоративные работы стали проводиться, но в очень малом объеме.
Совместные усилия федерального правительства, правительств республики и округа могли бы решить эту сложную проблему. В перспективе целесообразно спроектировать единую Печорскую линейно-узловую систему хозяйства: судоходство, в том числе туристическое, транспортировка древесины и ее обработка в Нарьян-Маре с последующим экспортом по Северному морскому пути, рыболовство и рыбопереработка, пойменное луговодство и укрепление кормовой базы животноводства.
Проблематика реки Печоры заключается не только в экономическом, но и в социально-культурном аспекте жизнедеятельности. Если можно так сказать, с уходом рек из народного хозяйства снизился уровень идентичности родных мест. Воз- рождение его на новой технологической базе домашних хозяйств – общая задача ненцев, коми и русских, укоренившихся в Припечорье как на своей малой родине. В Печорском регионе сохранились обширные слабозатронутые территории, уникальные в контексте общеевропейской экологической ситуации.
В отличие от административно-плановой в рыночной экономике предметное содержание вертикальной и в значительной мере горизонтальной интеграции все больше переходит в систему корпоративного управления. Корпорацию как сложно устроенную структуру нельзя рассматривать лишь в отраслевом плане. Зачастую она имеет многоотраслевой состав и включает в себя элементы территориальной инфраструктуры. Крупные национальные и/или транснациональные компании заняты в большей мере стратегическим финансово-экономическим планированием и отношениями с государством в целом, в меньшей – текущими делами самого производства. Последние, как правило, делегируются публичным (открытым) акционерным обществам (ПАО), а затем обществам с ограниченной ответственностью (ООО). Первые владеют основной частью природно-ресурсных и оперативных финансовых ресурсов; вторые осуществляют конкретные технологические операции, например геологоразведку, бурение, глубокое бурение, различные виды технических и социальных сервисных услуг (энергохозяйство, те-плохозяйство, автохозяйство, проектирование и пр.). Такие узкоспециализированные ООО являются самостоятельными хозяйствующими субъектами и вместе с тем строго соподчинены регламенту работы ПАО. Дробность управления усиливается еще по двум направлениям: 1) непрофильные активы выводятся за пределы компаний в качестве «малого бизнеса»; 2) единые предприятия, рабо- тающие в двух субъектах РФ (например, в Республике Коми и Ненецком автономном округе), иногда разделяются на два предприятия, чтобы пропорционально платить налоги в соответствующие территориальные бюджеты.
При такой дробности важно понять два момента:
-
1. Как корпоративная система управления должна взаимодействовать с общегосударственной и региональной властью? Ключевым становится вопрос о методологии и методах государственного влияния на экономическое поведение корпораций. Здесь речь может идти о силе равновесия. Крупной корпорации должна соответствовать крупная территориально-управленческая структура. Это будет пара соответствия сил. По правилам экономического управления упор целесообразно сделать на стимулирование вертикальной и горизонтальной интеграции и лишь ограниченно – на административные запреты.
-
2. Какую выгоду может получить территориальное развитие от правильной топологии бизнеса, включая основные предприятия и предприятия второго плана – производственный и социальный сервис? Оптимизация совмещенного их размещения может усилить экономический потенциал не одного, а двух-трех и более поселений.
Сказанное в равной мере относится и к Республике Коми, и к Ненецкому АО. Они имеют единую технологическую и организационную структуру производства и общую инфраструктуру. Этот факт считается существенным не только в республике и округе, но и в Архангельской области. Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года практически не рассматривает Ненецкий АО. В Ненецкой стратегии территория автономного округа и Республики Коми воспринимается в качестве единого производственного центра, обозначаемого как Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция.
Руководство Ненецкого округа сочло необходимым зафиксировать существующую ситуацию следующим образом: округ не выступает ни исключительно как «побережье» Республики Коми (для чего есть экономико-географические и корпоративные причины), ни как продолжение Архангельской области (в пользу чего говорят административные и историко-правовые факторы). Совокупность сложившихся функциональных связей сегодня является основой конкуренции Архангельской области и Республики Коми за доходы нефтяной отрасли Ненецкого автономного округа. Методы конкуренции Архангельской области имеют административный и бюджетный характер. Интересанты Республики Коми используют корпоративные, инфраструктурные и налоговые механизмы.
Отмеченные «разногласия» есть противоречие самой жизни регионов, а потому с ним необходимо считаться. Именно на фоне данного противоречия следует принимать во внимание интересы четвертой стороны – самой Российской Федерации. Речь идет о генеральной линии стандартизации статуса субъектов Федерации, при реализации которой неизбежно возникнет выбор: Ненецкий АО входит в состав либо Архангельской области, либо Республики Коми. Как следует из объяснения значения экономического и административно-политического районирования применительно к ситуации Северо-Западного федерального округа и его арктических и северных территорий, второй вариант – объединение Ненецкого АО и Республики Коми – более предпочтителен.
При разработке Схемы территориального планирования Республики Коми ее северные (арктические) территории естественным образом приходится рассматривать вместе с Ненецким АО. Именно в общих границах Урало-Печорской Арктики (Ненецкий АО, Воркутинское, Интинское, Усинское, Ижемское, Усть-Цилемское муниципальные образования) предстоит создать единую систему топливно-энергетического хозяйства с опорой на энергетические угли Воркуты и Инты, ресурсы газа средних и малых месторождений на территории Большезе-мельской тундры, попутного газа нефтепромыслов, электроэнергию Печорской ГРЭС, на общую электроэнергетическую сеть, транзитный и распределительный трубопроводный транспорт. То же относится и к дорогам. Значительным достижением станет завершение строительства автодороги с твердым покрытием Усинск – Нарьян-Мар, а в дальней перспективе – строительство железной дороги Индига – Сосногорск с выходом через Троицко-Печорск на проектируемую Северо-Сибирскую магистраль.
Как видим, экономическое районирование с точки зрения государственного управления выглядит весьма многогранно, но при этом сохраняется единая сверхзадача интеграции и обустройства российского пространства. Общие контуры территориальной организации производительных сил отражаются в генеральном экономическом районировании страны, совмещающем границы и функции федеральных округов и крупных экономических районов. Решения по данному вопросу принимают Президент и Правительство РФ на основе научных обоснований территориального устройства национальной экономики. Основными же единицами территориального устройства общества в целом остаются районы областного ранга. Их объединение в виде новых административно-территориальных образований – субъектов РФ – в настоящее время нежелательно.
Путем объединения можно идти лишь в порядке исключения из общего правила сохранения устойчивости существующего мезо- (областного) районирования. Это относится к объединению Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, Чукотского автономного округа и Магаданской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Такое объединение даже при достаточно логичном научном объяснении не должно быть сугубо административно-политическим решением, но предполагает проведение на данную тему референдумов населения, проживающих в соответствующих регионах.
Список литературы О практическом использовании социально-экономического районирования в системе государственного управления (примеры по Европейскому Северу России)
- Алаев, Э. Б. Федеральные округа -новация в территориальном статусе России /Э. Б. Алаев//Федерализм. -2000. -№ 4. -С. 169-182.
- Башалханова, Л. Б. Ресурсное измерение социальных условий жизнедеятельности населения Восточной Сибири /Л. Б. Башалханова, В. Н. Веселова, Л. М. Корытный; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии им. В.Б. Сочавы. -Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2012. -221 с.
- Иванова, О. Ю. Тенденции развития и размещения производительных сил в пространстве индустриального макрорегиона (на примере Урала) : автореф. дис. канд. экон. наук по специальности 08.00.05/О. Ю. Иванова. -Екатеринбург: УГЭУ, 2016. -28 с.
- Лаженцев, В. Н. Территориальная организация населения и хозяйства Европейского Севера России /В. Н. Лаженцев//Регион: экономика и социология. -2015. -№ 2. -С. 3-28.
- Литовка, О. П. Федеральные округа и проблема совершенствования территориального устройства России /О. П. Литовка//Региональное развитие и сотрудничество. -2001. -№ 3. -С. 48-51.
- Оптимизация территориальных систем /под ред. С. А. Суспицина. -Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2010. -632 с.
- Смирнягин, Л. В. Структурные сдвиги в экономике США и их географические последствия /Л. В. Смирнягин//Региональные исследования. -2015. -№ 2. -С. 108-117.
- Ускова, Т. В. Пространственное развитие территорий: состояние, тенденции, пути снижения рисков /Т. В. Ускова//Проблемы развития территории. -2015. -№ 1 (75). -С. 7-15.
- Шабо, Ж. Франция: развитие экономико-географических районов /Ж. Шабо. -М.: Прогресс, 1970. -472 с.
- Эстол, Р. География США /Р. Эстол. -М.: Прогресс, 1977. -428 с.