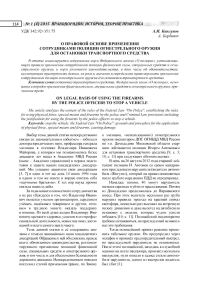О правовой основе применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия для остановки транспортного средства
Автор: Каплунов Андрей Иванович
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Административно-юрисдикционная деятельность полиции
Статья в выпуске: 1 (4), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется содержание норм Федерального закона «О полиции», устанавливающих правила применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, и норм уголовного законодательства, в том числе об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, их роли и значении в определении правомерности применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия для остановки транспортного средства.
Остановка транспортного средства, федеральный закон "о полиции", основания и порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, причинение вреда
Короткий адрес: https://sciup.org/14118897
IDR: 14118897 | УДК: 342.92+351.75
Текст научной статьи О правовой основе применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия для остановки транспортного средства
Выбор темы данной статьи непосредственно связан со знаменательным событием - юбилеем доктора юридических наук, профессора генерала милиции в отставке Владимира Ивановича Майорова, с которым мы познакомились более двадцати лет назад в Академии МВД России (ныне - Академия управления) в период подготовки к защите наших кандидатских диссертаций. Мы успешно защитили свои диссертации |5, 7| в один и тот же день 14 июня 1994 года в одном и том же совете и вправе считать себя «научными братьями». С тех пор наука прочно связала наши судьбы.
За годы нашего совместного сотру дничсства я нс раз убеждался в том, что Владимир Иванович является умелым организатором, серьезным ученым, надёжным товарищем и другом, готовым в трудную минуту оказать поддержку и помощь. От всей ду ши желаю Владимиру Ивановичу крепкого здоровья, успехов в его профессиональной деятельности, новых научных достижений и всего самого наилу чшего.
Тема данной статьи и сё содержание связаны с темами защищённых нами кандидатских диссертаций. Обращение к ней обусловлено, прежде всего, обновлением законодательства, регламентирующего применение полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. в том числе и для обеспечения безопасности дорожного движения. Непосредственным поводом послужил случай применения (ранее, по Закону о милиции, «использования») огнестрельного оружия инспектором ДПС ОГИБДД МВД России по г.о. Домодедово Московской области старшим лейтенантом полиции Игорем Антоновым для остановки транспортного средства |9, с. 3; К), с. 111 при следующих обстоятельствах:
В ночь на 26 авгу ста 2012 года старший лейтенант полиции И. Антонов со своим напарником преследовали нару шитсля (водителя автомобиля «Жигули»), который на приказ остановиться после грубого нарушения ПДД не отреагировал.
Началась погоня, 40 минут нарушитель пытался скрыться и уйти от преследования. Погоня из Домодедово продолжилась до Варшавского шоссе. При этом водитель несколько раз грубо нарушил правила: проехал на красный сигнал светофора, несколько раз выезжал на встрсчну ю полосу движения и даже вылетел на автобусну ю остановку с людьми, которые чудом успели отбежать 110, с. 111. Полицейский неоднократно требовал остановиться, но преследуемый нс выполнял эти требования.
Тогда полицейский принял решение применить табельное оружие. Он предупредил через мегафон и произвёл предупредительный выстрел, но преследуемый нарушитель нс остановился. После этого полицейский, находясь в служебной машине на месте пассажира, произвёл несколько выстрелов, пули попали в заднее стекло автомобиля нарушителя, одним из выстрелов водитель был убит 111.
Если нс ставить под сомнение достоверность находящихся в открытом доступе (материалы периодической печати и в сети интернет) данных о происшествии, у сотрудника полиции были основания для остановки транспортного средства (грубое нарушение ПДЦ). его преследования (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции об остановке) и производства выстрела «для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан» в соответствии с пунктом I части 3 статьи 23 ФЗ «О полиции».
Вместе с тем события по оценке правомерности данного факта применения сотрудником оружия развивались следующим образом:
Следственный комитет поначалу счёл, что Антонов действовал в соответствии с законом. Однако такие выводы оспорили родственники погибшего, требовавшие привлечь полицейского к уголовной ответственности. После чего следователь по расследованию особо важных дел СУ по Южному округу ГСУ СКР по Москве выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия в действиях Антонова состава преступления, затем это решение отменяется надзорными органами. Новая проверка, новый отказ - и новая отмена.
Так продолжалось до момента, когда «Дело Антонова» передали в созданный в 2012 года' отдел Следственного комитета по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, и II января 2013 года в отношении Игоря Антонова возбуждается уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ -«Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Согласно ей. виновному грозит до трех лет лишения свободы.
В августе 2013 года обвинение переквалифицируется на пункты «б» и «в» части 3 статьи 2X6 УК РФ - «Превышение должностных полномочий с применением оружия и с причинением тяжких последствий». Санкция этой статьи - уже от 3 до 10 лет лишения свободы |4|.
В марте 2014 года Игорь Антонов был признан Симоновским судом Москвы виновным. «Как рассказали «МК» друзья Антонова, прокурор требовал для полицейского пяти лет лишения свободы и подсудимый прибыл на вынесение приговора, что называется «с вещами», однако, судья внезапно заменил реальный срок на 5 лет условно»131.
Прежде всего, обращает на себя внимание различие позиций следственных органов (до диаметрально противоположных) в оценке правомерности применения оружия сотрудником полиции и «навязывание» надзорными органами представителям следствия обвинительного уклона.
В окончательном виде применение оружия И. Антоновым было квалифицировано как «Превышение должностных полномочий», по п.п. «б», «в» части 3 статьи 2X6 УК РФ. т. с. «Совершение должностным лицом действий, явно выходя щих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан ...», если они совершены «с применением оружия или специальных средств», а также «с причинением тяжких последствий».
Нс берусь оценивать законность и обоснованность принятых в отношении И. Антонова процессуальных решений, поскольку без изучения обвинительного заключения, приговора и иных материалов уголовного дела сделать это невозможно. Ясно одно - тяжкие последствия наступили при реализации сотрудником полиции права на применение оружия, в соответствии с пунктом I части 3 статьи 23 Федерального закона «Об оружии». В результате возникшего в соответствии с данной нормой правоотношения, одна сторона этого правоотношения (водитель, не выполнивший законное требование сотрудника об остановке) погибает, другая сторона (сам сотрудник полиции) привлекается к уголовной ответственности, что в свою очередь влечет судимость и \ вольнснис со службы.
Наступление указанных последствий для обеих сторон заставляет задуматься о качестве самих норм, которые лежат в основе данного правоотношения, прежде всего норм, регламентирующих полномочия сотрудников полиции на применение силы и оружия, в том числе для остановки транспортного средства, их значении при решении вопроса об уголовном преследовании и установлении признаков состава преступления о превышении этих должностных полномочий.
Так, первым признаком объективной стороны преступления, прсд\смотренного частью 3 статьи 2X6 УК РФ. является совершение долж ностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. В ситуации с И. Антоновым это действия (1) по остановке транспортного средства, (2) его преследованию и (3) применению оружия для его остановки. Действием, которое непосредственно повлекло «существенное нарушение прав и законных интересов граждан» в виде причинения «тяжких последствий», является «применение оружия». Судя по обвинению.
116 действиями, явно выходящими за пределы полномочий И. Антонова, признаны именно «действия по применению оружия», хотя из приведенной информации о данном происшествии нс возникает сомнений, что они совершены в предусмотренном законом случае.
«За пределы», если и выходят, то нс сами действия, а их последствия, которые характеризуют содержание второго признака объективной стороны деяния, предусмотренного частью третьей статьи 2X6 УК РФ. а именно, конкретизируют. в чем выразилось «существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Кроме того, тяжкие последствия, наступившие в результате действий сотрудника, являются еще и квалифицирующим признаком данного деяния.
Для ответа на вопрос о «явности» выхода за пределы полномочий по применению огнестрельного оружия, обратимся к нормам, устанавливающим эти полномочия. Согласно ч. I ст. IX Федерального закона «О полиции» для выполнения возложенных обязанностей «сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами». Данная норма является отсылочной, в ней, за исключением указания на ФЗ «О полиции», перечислены только виды федеральных законов, которые могут предусматривать указанные нормы.
Один из опросов 273-х сотрудников органов внутренних дел показал, что у сотрудников практических органов нет единодушия по вопросу о том, о каких федеральных законах (кроме ФЗ «О полиции») идет речь в ч. 1 ст. 1ХФЗ «О полиции». Подавляющее большинство опрошенных (83,5%) затрудтктсь ответить. Ответившие на данный вопрос (39 чел ), называли следующие нормативные акты: Конституция РФ (17 чел ), У К РФ (17 чел.), ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (I чел.), УПК РФ (3 чел.), КоАП РФ (4 чел ), ФЗ «О противодействии терроризму (4 чел ), ФЗ «О противодействии коррупции» (I чел ). ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (4 чел ). Положение о службе в органах внутренних дел (5 чел ). ФЗ «О государственной безопасности» (1 чел.) |Х. с. 651. Полученные результаты, прямо скажем, неутешительные. И дело здесь нс только в юридической грамотности (или неграмотности) сотрудников полиции, но и в характере самой этой преиму щсственно
«безадресной» нормы, с точки зрения отсутствия в ней исчерпывающего перечня федеральных •законов, предусматривающих случаи и порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Если ориентироваться на использованную в статье терминологию, то к числу федеральных законов, прямо предусматривающих «случаи и порядок» применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия кроме ФЗ «О полиции», можно отнести только ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Кроме того, упоминание о порядке применения есть в ст. 30 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ «О чрезвычайном положении», согласно которой «установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок и условия применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники изменению в условиях чрезвычайного положения нс подлежат» (вы^с./сд/о автором А.К.).
Анализ перечисленных в этих федеральных законах случаев применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, свидетельствует, что ряд случаев применения сформулирован в самом общем виде и требует обращения к другим федеральным законам. К примеру, в соответствии с ФЗ «О полиции» физическая сила применяется «1) для пресечения преступлений и административных правонарушений» (ч. I ст. 20), а специальные средства -«2) для пресечения преступления или административного правонарушения». При применении физической силы, и специальных средств должны строго соблюдаться нормы КоАП РФ и УК РФ. устанавливающие конкретные виды административных правонарушений и преступлений.
В свою очередь, необходимость конкретизации признаков ряда административных правонарушений и преступлений, сформулированных в виде бланкетных (отсылочных) норм, предполагает знание регулятивных норм, которые могут содержаться как в федеральных законах и подзаконных нормативных актах, так и законах и подзаконных нормативных актах субъектов Российской Федерации. Следовательно, рассматриваемая норма может иметь расширительное толкование, согласно которому к числу законов (и нс только федеральных), конкретизирующих случаи применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, кроме
ФЗ «О полиции» и ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» следует отнести КоАП РФ, УК РФ, иные федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, нормы которых позволяют отграничить правомерное поведение от противоправного при квалификации совершаемых административных правонарушений и преступлений.
Кроме того, физическая сила, специальные средства и огнестрельное оружие могут применяться в предхсмотренных законом случаях для преодоления противодействия не только в ходе прекрашения уголовно или административно наказуемого деяния на месте и в момент его совершения. но и в ходе применения других мер административного принуждения, а также для преодоления противодействия при невыполнении законных требований сотрудника полиции (к примеру, об остановке транспортного средства).
Для остановки транспортного средства, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке, предоставляется право применить даже огнестрельное оружие, несмотря на то. что основанием для остановки в подавляющем большинстве является нарушение пдд. т. с. административное правонарушение.
Таким образом, в слу чае с И. Антоновым нет оснований говорить о «явном» превышении полномочий. поскольку основания для применения огнестрельного оружия были, сам выстрел из оружия произведен в установленном законом случае. О «явном» превышении полномочий в данной ситуации можно вести речь только тогда, когда выстрелы из оружия производятся в нс предусмотренных законом случаях, либо когда нс было оснований для остановки транспортного средства - именно эти обстоятельства являются определяющими при оценке «явности» превышения полномочий.
Вместе с тем возникает вопрос, а можно ли вообще говорить, пусть и нс о «явном», а значит с точки зрения признаков, указанных в ст. 286 УК РФ, нс уголовно наказуемом, но все же «превышении полномочий» и основаниях для \ головного преследования с учетом насту пивших тяжких последствий в результате применения И. Антоновым огнестрельного оружия. Тем более, что в ч. 8 ст. 18 ФЗ «О полиции» именно так и сказано: «Превышение сотрудником полиции полномочий при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации». Причем речь может идти нс только об уголовной ответственности. но и гражданско-правовой |см. подр.: 6| и дисциплинарной.
Прежде всего, в отношении тяжких последствий замечу, что применение сотрудником полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, представляет собой ответное и вынужденное силовое воздействие на оказываемое сотруднику противодействие. Оно с неизбежностью влечет причинение вреда правонарушителю, в том числе физического, а в отдельных случаях, особенно применение огнестрельного оружия, может повлечь смертельный исход. Такова природа этих мер административного принуждения. В связи с этим при решении вопроса о превышении полномочий при применении данной группы мер принуждения оценивается «правомерность» причиненного вреда.
Согласно ч. 9 ст. 18 ФЗ «О полиции» «Сотрудник полиции нс несёт ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами. настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами».
По сути, данная норма закрепляет «универсальное» обстоятельство, исключающее ответственность за причинение вреда при применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в установленных ФЗ «О полиции» случаях и порядке как в отношении лица, совершающего престу плснис (в том числе особо опасное), так и лица, совершающего административное правонарушение.
В эту норму, если так можно выразиться, «вмонтировано» также обстоятельство, исключающее преступность деяния сотрудника полиции (применения им огнестрельного оружия по основаниям и в порядке, которые установлены ФЗ «О полиции»), повлекшего причинение вреда (в том числе тяжкого), подпадающего под признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.
Однако регулирование вопросов уголовной ответственности, в том числе установление обстоятельств. исключающих преступность деяния, это прерогатива уголовного, а нс административного законодательства. Следовательно, применение многообещающей административно-правовой нормы, закрепленной в ч. 9 ст. 18 ФЗ «О полиции».
118 в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, является практически невозможным, так как аналогичная норма отсутствует в главе 8 Уголовного кодекса Российской Федерации. содержащей перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Обратим также внимание на то, что в ч. 1 ст. 18 ФЗ «О полиции» при закреплении права сотрудника полиции на применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия говорится о «случаях и порядке», а в ч. 9 ст. 18 в качестве критериев оценки правомерности причиняемого сотрудником полиции вреда указаны «основания» и «порядок» их применения. По мнению авторов комментария к ФЗ «О полиции», которые принимали непосредственное участие в разработке проекта данного закона, в части 9 статьи 18 «законодатель дополнительно подчеркивает, что основания и порядок применения органом охраны правопорядка физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия устанавливаются нс только Законом о полиции, но и иными федеральными конституционными и федеральными законами, в том числе У К РФ» |2, с. 3821. Однако понять, что данная норма «подчеркивает» то, что основания и порядок применения указанных мер Принуждения устанавливаются, в том числе У К РФ. и о каких случаях и каких нормах УК РФ идёт речь, достаточно трудно, поскольку в самой норме прямого упоминания об УК РФ нет, как нет упоминания и о других законах устанавливающих «основания» для применения силы, о которых уже шла речь в данной статье.
По су ти дела, данная норма в этой части дублирует текст ч. I ст. 18 ФЗ «О полиции», с той только разницей, что вместо термина «случаи», употреблен термин «основания» применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружиям. Однако какой смысл вкладывается в замену одного термина на другой и, что этим подчеркивается, комментарий умалчивает. Это нс праздные вопросы, речь идёт о содержании терминов, определяющих полномочия. реализация которых связана с причинением правонарушителю вреда, вплоть до лишения жизни. С высокой степенью вероятности можно предположить, что если бы по содержанию, либо пределам действия ч. 9 ст. 18 ФЗ «О полиции» сотрудникам полиции был задан вопрос, аналогичный заданному по ч. 1 ст. 18, то результаты опроса были бы нс лучше, а скорее всего даже хуже.
Говоря об «основаниях» применения оружия и соотношении данного понятия с термином
«случаи» применения оружия, а также значении норм УК РФ для характеристики «основания», на наш взгляд, следует иметь в виду следующее.
Основаниями применения силы и оружия являются указанные в законе случаи их применения, которые содержат описание правоохранительных ситуаций, при возникновение которых допу скастся применение силы и ору жия. за исключением тех ситуаций, на которые распространяются установленные законом запреты и ограничения.
Нормы УК РФ. как уже говорилось, конкретизируют признаки прссту плений. которые согласно установленным случаям являются основанием для применения силы и оружия.
Кроме того, сами действия сотрудника полиции по применению физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, право на которые закреплено Законом о полиции и которые влекут причинение физического вреда правонарушителю, одновременно попадают в сферу регулирования норм уголовного законодательства, поскольку такие ответные действия, как правило, также подпадают под признаки преступления. предусмотренного конкретной статьёй УК РФ (причинение различной тяжести вреда здоровью и т. д.).
УК РФ в ст. 37-39 закрепляет обстоятельства. исключающие ответственность сотрудника полиции за контркриминальнос применение им физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если он действовал в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости или при задержании лица, совершившего преступление и при этом не превысил пределы необходимой обороны, крайней необходимости. причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Таким образом, анализ содержания частей 1 и 9 ст. 18. ст. 19-23 ФЗ «О полиции», ст. 37-39 УК РФ позволяют сделать вывод, что правомерность применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия определяется следующим образом:
при применении физической силы и специальных средств к лицу, совершающему или совершившему административное правонарушение, правомерность действий сотрудника полиции определяется в соответствии с административно-правовыми нормами, устанавливающими основания (случаи) и порядок их применения;
при применении физической силы, специальных средств и огнестрельного ору жия к лицу, совершающему или совершившему уголовно наказуемое деяние, правомерность действий сотрудника полиции определяется в соответствии с административно-правовыми нормами, устанавливающими основания (случаи) и порядок их применения, а также положениями уголовноправовых норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (ст. 37, 38, 39 УК РФ), устанавливающих требования к соразмерности причиняемого при этом вреда.
Указанные особенности позволяют получить более полное представление о закрепленной ФЗ «О полиции» модели правомерного применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия. В обеих группах случаев правомерность применения сотрудником указанных мер принуждения закон связывает как со строгим соблюдением норм, устанавливающих основания их применения (т. с. норм, которые устанавливают случаи и иные условия их применения, в частности, запреты и ограничения), так и со степенью тяжести причиняемого при этом вреда (т. с. соблюдением норм, устанавливающих порядок применения силы и оружия, требования к ответным действиям сотрудника полиции).
Случай применения огнестрельного оружия И. Антоновым относится к первой группе, когда правомерность причинения вреда Закон о полиции связывает с соблюдением норм, устанавливающих основания и порядок применения огнестрельного оружиям.
Как уже было сказано, основания для применения огнестрельного оружия, предусмотренные п. I ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции», у И. Антонова были. Однако следует обратить внимание, что в «случае», предусмотренном п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции», устанавливается нс только основание для остановки транспортного средства -«если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угроз}' жизни и здоровью граждан», но и конкретизируется вред, который может быть причинен, «путём его (т. с. транспортного средства) повреждения». Получается, что данным пунктом сотруднику полиции предоставляется право на выстрел, но нс исключается ответственность сотр} дника за последствия этого выстрела, если будет причинен физический вред лицам, находящимся в этом транспортном средстве. В таком виде, это так называемое полномочие «провоцирует» сотрудника полиции на действия, которые, как правило, по нс зависящим от сотрудника обстоятельствам, могут причинить физический вред (в том числе тяжкий) лицам, находя-щимся в этом транспортном средстве. В резу льтатс чего ответственность за такие последствия перекладывается с лица, которое своими противоправными действиями вынудило сотрудника полиции применить оружие, на самого сотрудника полиции.
Как видим, эта норма далеко нс идеальна. Именно эта норма является правовой основой для возникновения правоотношения, которое может повлечь, как показала практика, тяжкие последствия для обеих сторон этого правоотношения. На наш взгляд, здесь можно предложить два варианта коррекции данного полномочия: либо исключить из п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции» слова «путем его повреждения», либо исключить caxi этот пу нкт, который допускает для устранения «угрозы жизни и здоровью граждан» использовать нс менее опасный способ её устранения.
Теперь обратимся к статье ФЗ «О полиции», устанавливающей порядок применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (ст. 19). Особый интерес с точки зрения оценки правомерности вреда, причиненного в результате применения указанных мер принуждения, представляет положение. закреплённое в ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции», согласно которому' «сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила специальные средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба» (выделено автором А.К.).
Замечу, что в случае с применением огнестрельного оружия И. Антоновым может возникнуть желание при оценке правомерности его действий исходить из соразмерности действий правонар} шитсля (которые содержат только признаки административных правонарушений в области дорожного движения) и наступившего в результате действий сотрудника полиции тяжкого вреда, и свести правомерность применения огнестрельного оружия к соразмерности вреда, причинённого правонар} шитслсм. том} вред}, который причинён самом}' правонарушителю, но такой подход противоречит нормам, устанавливающим полномочия сотрудника полиции на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного ор} жия.
Процитированная норма включает требования, которые позволяют оценить правомерность причинённого вреда (ущерба) с точки зрения соразмерности «действий» сотрудника полиции обстоятельствам, которые сложились на месте и в момент оказания принудительного воздействия. Основания для таких действий уже нс могут подвергаться сомнению.
Положения ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции» «направляют» сотрудника полиции на совершение действий, которые наиболее адекватны «создавшейся обстановке» на месте и в момент применения огнестрельного оружия (т. с. в момент производства выстрела из оружия), «характера и степени опасности действий лиц. в отношении которых применяются ... специальные средства или огнестрельное оружие» (т.с. на месте и во время их применения).
Данная норма, кроме того, требует действовать с учетом «характера и силы оказываемого сопротивления», если оно имело место, поскольку это требование относится только к случаям контркриминального применения оружия. Обращу вниманию, что Закон о милиции ориентировал сотрудников к минимизации ущерба при применении силы и оружия в зависимости от «силы оказываемого противодействия»*. В случае применения огнестрельного оружия И. Антоновым имело место не «сопротивление», а именно «противодействие», сила которого и вынудила сотрудника полиции прибегнуть к оружию для устранения «угрозы жизни и здоровью граждан».
Нс понятно, что хотел подчеркнуть законодатель (и разработчики), заменив термин «противодействие» на термин «сопротивление», как нс онятно и то, что хотели подчеркнуть заменой уже ставшего привычным для сотрудников термина «использование», которым именовались выстрелы из оружия в случаях, когда нс допускалось ранение человека, на термин «применение», которым именовались выстрелы из оружия в случая, когда стрельба ведётся по самому человеку. На наш взгляд, эти так называемые «новеллы» только запутывают сотрудников полиции.
И наконец, данная норма обязывает сотрудника полиции «стремиться к минимизации любого ущерба». Вместе с тем стремление к «минимизации любого у щерба» нс всегда приводит к желаемому результату. т. с. минимизации фактически причиненного ущерба, особенно при применении огнестрельного оружия для остановки транспортного средства, когда стрельба ведется из движущегося транспортного средства по дви жущемуся транспортному средству. В таких условиях (обстановке) вести прицельную стрельбу практически невозможно и поэтому есть высокий риск того, что результат стрельбы будет определяться нс столько стремлением сотрудника, сколько реальными условиями стрельбы. Однако наличие такого риска нс является обстоятельством. исключающим применение оружия.
Подводя итог сказанному, можно с уверенностью констатировать. что положения ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции» являются оценочными и трудновыполнимыми в экстремальной ситуации при дефиците времени для принятия решения, дают основу для усмотрения при оценке правомерности действий сотрудника полиции и возможности объективного вменения в вину сотруднику фактически причиненного вреда.
Кроме того, закреплённая в ФЗ «О полиции» модель правомерного применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, в целом являясь сложной в технико-юридическом плане, устанавливает для сотрудника полиции жёсткие рамки, выход за которые расценивается как превышение служебных полномочий. Наиболее важные и принципиальные сё положения нс вполне понятны правоприменителю, могут быть по-разному истолкованы и нс обеспечивают должной правовой защиты сотрудников полиции, несмотря на то. что огнестрельное оружие применяется в установленных законом случаях и порядке, поскольку не согласована с нормами УК РФ. устанавливающими обстоятельства, исключающие у головну ю ответственность.
Можно с у всрснностью сказать, что именно указанные недостатки закона сыграли решающую роль в том, что в отношении И. Антонова следователям СК РФ под нажимом представителей надзорного органа пришлось реализовать обвинительный уклон при оценке правомерности действий сотрудника полиции. И только благодаря взвешенной позиции судьи он нс отбывает наказание в виде лишения свободы.
На наш взгляд, исходя из информации об этом случае, находящейся в открытом доступе, огнестрельное оружие применено И. Антоновым в установленном ФЗ «О полиции» случае и порядке, а значит согласно административно-правовых норм правомерно, поэтому мы убеждены, что точку в этом деле ставить рано.
*Утративший силу Закон «О милиции» обязывал сотрудника милиции «стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонару шения и лиц. его совершивших, и силы оказываемого противодействия к тому. чтобы любой ущерб, причиняемый при этом, был минимальным» (абз. 2 ч. 3 ст. 12) (выделено автором А.К.у
Список литературы О правовой основе применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия для остановки транспортного средства
- http://domodedovod.ru/novosti/inspektora-dps-ubivshego-narushitelya-osudili-uslovno/
- Аврутин Ю. Е., Булавин С. П., Соловей Ю. П., Черников В. В. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный). -М.: «Проспект», 2012. -552 c.
- Гаишника, убившего нарушителя в Москве, приговорили к пяти годам условно. -http://www.mk.ru/social/justice/article/2014/03/24/1002968-gaishnika-ubivshego-narushitelya-v-moskve-prigovorili-k-pyati-godam-uslovno.html
- Закон и дышло. Сотрудник ГИБДД, спасший людей, пойдёт под суд//Аргументы и факты. -2013. 11 декабря.
- Каплунов А. И. Правовые и тактические основы применения милицией огнестрельного оружия: дис. … канд. юрид. наук. -М., 1994. -195 с.
- Кокорин И. С. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый применением физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками органов внутренних дел: дис.. канд. юрид. наук. -СПб., 2006. -215 с.
- Майоров В. И. Организационные и правовые основы межотраслевого управления обеспечением безопасности дорожного движения (в регионе): дис. … канд. юрид. наук. -М., 1994. -182 с.
- Сильников А. М. Организационно-правовые основы применения сотрудниками полиции специальных средств принуждения: дис. … канд. юрид. наук. -СПб., 2011.
- Яланжи Е. Что удивило в суде сотрудников ГИБДД//Щит и меч. -2014. -№ 4. -С. 3.
- Яланжи Е. Шанс -один к тысяче//Щит и меч. -2013.-№ 47. -С. 11.