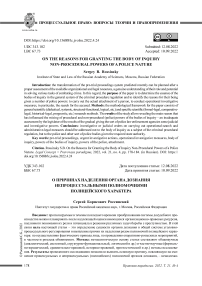О причинах наделения органа дознания непроцессуальными полномочиями полицейского характера
Автор: Россинский Сергей Борисович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Процессуальное право: вопросы теории и правоприменения
Статья в выпуске: 4 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: прогнозируемые в течение последнего времени преобразования системы досудебного производства можно планировать после надлежащей оценки имеющихся организационно-правовых ресурсов, подлинного понимания их роли и потенциала в решении различных задач борьбы с преступностью. В этой связи цель настоящей статьи - это определение сущности органов дознания в общей системе уголовно-процессуального регулирования и выявление причин их наделения рядом полномочий полицейского характера: по осуществлению фактического привода лица, по проведению оперативно-розыскных мероприятий, в частности розыска обвиняемого. Методы: методологическую основу статьи составляют общенаучные (диалектический, системный, структурно-функциональный, логический и др.) и частно-научные (формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, прогностический и др.) методы исследования. Результаты проведенного исследования позволили выявить основную причину, повлиявшую на смешение процессуальных и непроцессуальных (полицейских) полномочий органов дознания, - ненадлежащую оценку законодателем итогов постепенного наделения правоохранительных органов полицейского типа полномочиями судебно-следственного характера. Выводы: следственные или судебные поручения о проведении оперативно-розыскных и административно-правовых мероприятий надлежит адресовать не органу дознания как субъекту уголовно-процессуального регулирования, а полиции и другим органам полицейского типа, наделенным требуемыми государственно-властными полномочиями.
Досудебное производство, неотложные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, орган дознания, полномочия органов дознания, полномочия полиции, привод
Короткий адрес: https://sciup.org/149141518
IDR: 149141518 | УДК: 343.102 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2022.4.24
Текст научной статьи О причинах наделения органа дознания непроцессуальными полномочиями полицейского характера
DOI:
В настоящее время на общем фоне постоянных колебаний национальной системы уголовной юстиции, бесчисленных изменений и дополнений, вносимых в уголовно-процессуальное законодательство, большую актуальность приобретают вопросы, связанные с целесообразностью дальнейших реформ досудебного производства в целом и осуществляющих его органов в частности. Эти вопросы являются предметом постоянных обсуждений и дискуссий. Высказываются самые различные мнения: от возрождения дореволюционный подходов до полной замены предварительного следствия непроцессуальной деятельностью полиции на подобии немецкой или даже американской модели организации досудебного расследования.
Однако представляется, что любые подобные преобразования можно планировать и тем более проводить лишь после надлежащей доктринальной «ревизии» имеющихся организационно-правовых ресурсов, подлинного понимания их роли и потенциала в решении различных задач борьбы с преступностью. Тогда как в реальности, несмотря на кажущуюся исследовательскую завершенность и множество научных публикаций, никакого подобного понимания по целому ряду вопросов просто не существует.
В частности, множество неясностей связано с сущностью и процессуальным положением органа дознания как одного из базовых субъектов досудебного производства по уголовного делу. На первый взгляд, ответы на эти вопросы более чем очевидны. Скорее всего, любому, хотя бы немного ориентирующему в уголовном процессе человеку хорошо известно, что органами дознания при- знаются органы исполнительной власти (иногда отдельные должные лица) полицейского либо параполицейского 1 типа, наделенные государственно-властными полномочиями по осуществлению дознания как полноценной формы предварительного расследования, а также по выполнению иных, более частных задач досудебного характера: по возбуждению / отказу в возбуждении уголовных дел, производству неотложных следственных действий и выполнению локальных поручений следователя. Данный смысл напрямую вытекает из целого ряда находящихся в системном единстве положений уголовно-процессуального закона и поддерживается авторами большинства доктринальных источников: научно-практических комментариев к УПК РФ, учебников, учебных пособий и т. д. Вместе с тем при более детальном погружении в тонкости уголовного процесса подобное понимание органов дознания начинает представляться далеко не таким уж и однозначным, лишенным достаточной степени конкретности, и, самое главное, упирающимся в никем не разрешенные вопросы. Так, не совсем ясно, с какой целью УПК РФ возлагает на органы дознания ряд полномочий не столько процессуального, сколько сугубо полицейского характера, например, по осуществлению фактического привода человека в орган предварительного расследования или в суд (ч. 7 ст. 113 УПК РФ), по проведению оперативно-розыскных мероприятий на основании поручения следователя (ч. 4 ст. 157 УПК РФ), по розыску подозреваемого или обвиняемого (ч. 1 ст. 210 УПК РФ) 2. Желание досконально разобраться в данном вопросе, постараться разрешить возникающие в связи с этим проблемы и побудило к написанию настоящей статьи.
Основное содержание (о полицейской природе органов дознания)
Начать хотелось бы с констатации ранее выявленного и уже неоднократно описанного в прежних публикациях автора историкоправового факта: ввиду целого ряда обстоятельств и катаклизмов, сопутствующих развитию советской и постсоветской государственности, в России постепенно сформировалась достаточно уникальная, существенно отличающаяся от зарубежных аналогов национальная модель досудебного производства, предполагающая административизацию уголовной юстиции, включая передачу классических юрисдикционных (судебно-следственных) полномочий в вéдение исполнительно-распорядительных органов, в первую очередь «силовых» министерств и ведомств полицейского типа, то есть как бы частичную интеграцию функций «полиции» и «юстиции». Подобные тенденции возникли еще в начале 1920-х гг. и были обусловлены сразу несколькими причинами: а) предопределенными известным ленинским лозунгом «Вся власть советам!» преобразованиями всего государственного аппарата, невольно затронувшими и саму систему органов уголовной юстиции, и порядок реализации ими соответствующих полномочий; б) стремлением максимально обособить «отвечающие интересам трудящихся» советские юридические процедуры от соответствующих механизмов, свойственных для правовых систем «загнивающих» империалистических государств; в) постреволюционным кадровым голодом, отсутствием в распоряжении советского правительства достаточного числа опытных правоведов «старой закалки», способных справиться с резко возросшим в условиях распада империи, революции и гражданкой войны объемом уголовных и квазиуго-ловных (трибунальных) дел [5, с. 27–36].
И в этой связи нет ничего удивительного в возникновении идей о наделении органов дознания подлинной юрисдикционной правосубъектностью, о сближении выполняемых ими функций с функциями органов предварительного следствия 3. По крайней мере, подобные позиции неоднократно высказывались советскими учеными [1, с. 148–149;
2, с. 13–14] 4. Нет ничего странного и в дальнейшем перерастании подобных идей в устойчивые тенденции, выраженные во все большей и большей процессуализации органов дознания. Ведь если ранее дознание ассоциировалось с раскрытием преступлений, с розыском обвиняемых, с обнаружением и обеспечением сохранности потенциальных доказательств и тому подобными первоначальными действиями полиции оперативно-розыскного и административно-правового характера [3, с. 3] 5, то к настоящему времени оно постепенно превратилось в автономную, как бы альтернативную форму предварительного расследования, предполагающую дифференциацию на ординарное дознание (ст. 32 УПК РФ) и сокращенное дознание (ст. 32.1 УПК РФ), а сам дознаватель превратился в некого квазиследователя.
Однако деятельность современных органов дознания не ограничивается лишь осуществлением этих самых ординарных и сокращенных дознаний. Орган дознания – субъект уголовного судопроизводства, а дознание – форма его поведения, поэтому их соотношение аналогично соотношению охотника с охотой, рыбака с рыбалкой и т. п. Как уже отмечалось, помимо собственно дознания указанные органы наделяются еще целым рядом уголовно-процессуальных полномочий. Иными словами, несмотря на постепенную процессуализацию органов дознания, на выполнение функции «юстиции», они все еще сохраняют свою исконную полицейскую природу, предполагающую безотлагательное реагирование на поступивший «сигнал» и принятие незамедлительных мер в целях выявления и раскрытия преступления, превентивного задержания потенциального подозреваемого, предварительного выяснения обстоятельств случившегося, сохранения предрасположенных к утрате или повреждению следов преступления и т. д.
Более того, представляется, что полицейская природа в той или иной степени присуща всем формам уголовно-процессуальной деятельности органов дознания. Даже предусмотренные гл. 32 УПК РФ особенности ординарного дознания, несмотря на превалирование элементов юрисдикционного (судебноследственного) характера, тоже напоминают о полицейском происхождении этого порядка расследования – в отличие от предварительного следствия, обремененного процедурой предъявления обвинения, позволяющей выяснить позицию обвиняемого, с учетом которой полнее, всестороннее и объективнее исследовать обстоятельства уголовного дела, дознание по смыслу закона сводится к более «поверхностному» установлению таких обстоятельств и скорейшей передаче материалов прокурору как субъекту, инициирующему предстоящее судебное разбирательство. А предусмотренное гл. 32.1 УПК РФ сокращенное дознание и вовсе состоит в формировании обвинительного тезиса (будущей позиции государственного обвинения) не столько в «следственном», сколько в «полицейском» режиме, не требующем жесткого обоснования установленных обстоятельств результатами следственных действий и судебных экспертиз.
Однако сильнее всего полицейская природа все-таки проявляется в части производства органами дознания неотложных следственных действий и выполнения отдельных поручений следователя (подобные механизмы наиболее четко напоминают функции дореволюционной полиции, сводившиеся к осуществлению первоначального этапа досудебного производства, а также к оказанию текущего содействия судебным следователям). По смыслу УПК РФ именно данные полномочия отнесены не к вéдению дознавателя как должностного лица, а к вéдению органа дознания как «командного» (коллективного) участника уголовно-процессуальной деятельности, предполагающего совместное нахождение в постоянной взаимосвязи координирующего руководителя и непосредственных исполнителей соответствующих познавательно-удостоверительных или обеспечительных приемов. Собственно говоря, такой принцип и заложен в основу любого правоохранительного органа полицейского типа: совместное решение поставленной задачи под руководством начальника (шерифа, комиссара полиции и т. п.), поручающего подчиненным сотрудникам выполнение отдельных действий с незамедлительными докладами об их ходе и результатах.
Представляется, что именно процессу-ализация еще частично сохраняющей полицейскую природу деятельности органов дознания и стала основной причиной возникновения не вполне понятных и конкретных положений закона, предопределяющих эклектику уголовнопроцессуальных полномочий с непроцессуальными полномочиями оперативно-розыскного и административно-правового характера. По всей вероятности, подобные правотворческие изъяны обусловлены недостаточно глубоким пониманием самим законодателем (читай, разработчиками проекта УПК РФ) собственных замыслов – скорее всего авторы соответствующих статей Кодекса достаточно бездумно, без должной адаптации к общей концепции досудебного производства (если, конечно, такая вообще существовала!) переписали содержание схожих по предмету регулирования статьей УПК РСФСР 1960 г.; последние, в свою очередь, были позаимствованы из УПК РСФСР 1923 г. и т. д. вплоть до Устава уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г., придававшего деятельности органов дознания, совершенно иной, сугубо непроцессуальный смысл. Другими словами, долгие годы постепенной процессуализации деятельности органов дознания весьма негативно отразились на четкости и однозначности законодательных преставлений об их правовом положении, функциях и полномочиях.
Иначе, чем еще можно объяснить вытекающее из содержания УПК РФ явно двойственное понимание органов дознания: 1) в процессуальном смысле – как субъектов уголовного судопроизводства и 2) в каком-то ином, по всей вероятности, полицейском смысле – как органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной и (или) административной деятельности полицейского типа? Как еще можно объяснить положения закона, предписывающие органам дознания (не полиции, не иным органам полицейского типа, а именно органам дознания, то есть субъектам, уголовно-процессуальных правоотношений!) осуществлять явно выбивающиеся из сферы процессуального регулирования вышеупомянутые оперативно-розыскные и административно-правовые мероприятия? Содержание ч. 7 ст. 113 УПК РФ дает все основания предполагать, что законодатель вообще окончательно запутался в этих вопросах, поскольку предписал осуществлять «следственный» привод каким-то неопределенным органам дознания, а «су- дебный» – сотрудникам органов принудительного исполнения РФ.
Выводы
Конечно, включение подобных мероприятий в сферу полномочий органов дознания – непростительная ошибка, обусловленная все тем недопониманием данного правового феномена. В конце концов, орган дознания – это не фактически существующий коллектив, включающий определенное количество сотрудников, занимающий служебное помещение, располагающий неким имуществом и т. д. – таковыми как раз являются полиция или иные органы полицейского либо параполицейского типа. Орган дознания – не более чем процессуальный статус, то есть сугубо формальная, юридическая конструкция предполагающая совокупность полномочий, сводящихся к дискреционным дозволениям, предписаниям, запретам иподлежащих реализации строго в рамках уголовно-процессуальной деятельности. По крайней мере, в других сферах законодательного регулирования такого статуса не существует. Следовательно, наделить органы дознания выходящими за предмет уголовнопроцессуального регулирования оперативнорозыскными, административно-правовыми и прочими непроцессуальными полномочиями – все равно, что предоставить какому-либо невластному субъекту уголовного судопроизводства (не просто как физическому лицу, а именно как субъекту уголовного судопроизводства!) ником образом не связанную с его участием в соответствующих правоотношениях юридическую возможность, например наделить потерпевшего правом посещения друзей, свидетеля – правом поездки на курорт и т. п.
Предписывая органам дознания осуществление фактического привода подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, розыска лица и других оперативно-розыскных мероприятий (ч. 7 ст. 113, ч. 4 ст. 157, ч. 1 ст. 210 УПК РФ), законодатель, вне всяких сомнений, допускает достаточно существенную неточность. Любые подобные следственные или судебные поручения надлежит адресовать не органу дознания как субъекту уголовнопроцессуального регулирования, а именно полиции (органам внутренних дел), ФСБ России и другим органам полицейского лицо параполицейского типа, наделенным требуемыми государственно-властными полномочиями. Именно в таком, к слову, совершенно разумном, ключе и урегулированы некоторые иные уголовно-процессуальные отношений, что в очередной раз свидетельствует о нечеткости законодательных представлений о разграничении категорий «органы дознания» и «органы исполнительной власти полицейского (параполицейского) типа». Например, ч. 7 ст. 164 УПК РФ дозволяет следователю привлекать к участию в следственном действий оперативных сотрудников – не должностных лиц органов дознания, каковыми они по сути и являются, а именно должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В части поручения контроля и записи переговоров используется более обтекаемая, но все же достаточно разумная формулировка – следователю предписывается поручать указанные операции не органу дознания, а «соответствующему органу» (ч. 4 ст. 186 УПК РФ).
В завершении хотелось бы выразить надежду, что высказанные в настоящей статье позиции в конце концов все-таки будут восприняты законодателем, вследствие чего исчезнут соответствующие трудности и противоречия, все еще возникающие в ходе предварительного расследования уголовных дел.
Список литературы О причинах наделения органа дознания непроцессуальными полномочиями полицейского характера
- Вышинский, А. Я. Курс уголовного процесса / А. Я. Вышинский. - М.: Юрид. изд-во Наркомюста РСФСР, 1927. - 222 с.
- Громов, В. И. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений: руководство для органов дознания и народных следователей / В. И. Громов. - М.: Юрид. изд-во Наркомюста РСФСР, 1926. - 299 с.
- Квачевский, А. А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 года. Теоретическое и практическое руководство / А. А. Квачевский. - СПб.: Тип. Ф.С. Сущинского, 1867. - 368 с.
- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М.: А ТЕМП, 2006. - 944 с.
- Россинский, С. Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и способы собирания доказательств / С. Б. Россинский. - М.: Норма, 2021. - 408 с.
- Стремовский, В. А. Участники предварительного следствия в советском уголовном процессе / В. А. Стремовский. - Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1966. - 260 c.
- Чельцов, М. А. Советский уголовный процесс / М. А. Чельцов.- М.: Госюриздат, 1951. - 511 c.