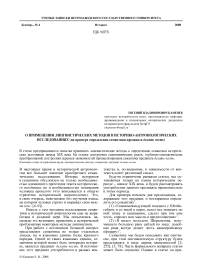О применении лингвистических методов в историко-антропологических исследованиях (на примере определения семантики предиката делать честь)
Автор: Каменев Евгений Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (97), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка применить лингвистические методы к определению семантики исторических источников начала XIX века. На основе построения синонимических рядов, глубинно-синтаксических преобразований, построения деревьев зависимостей проанализирована семантика предиката делать честь.
Историческая наука, лингвистические методы, семантика, предикат делать честь
Короткий адрес: https://sciup.org/14749485
IDR: 14749485 | УДК: 9(075)
Текст научной статьи О применении лингвистических методов в историко-антропологических исследованиях (на примере определения семантики предиката делать честь)
В настоящее время в исторической антропологии все большее значение приобретают семантические исследования. Интерес историков к семантике обусловлен не только необходимостью адекватного прочтения текста исторического источника, но и необходимостью понимания человека прошлого (что вписывается в общую стратегию исторической антропологии). Это, в свою очередь, невозможно без изучения языка, на котором человек строил и выражал свои мысли (см.: [4–9]).
Вместе с тем методика исследования семантики в исторической антропологии еще не выработана в должной мере. Мы попытаемся, насколько это возможно, применить к исторической проблематике некоторые методы лингвистики.
При работе с источником большой интерес представляет семантика не только отдельных лексем, но и языковых единиц более крупного порядка. Одной из таких языковых единиц, семантика которой может быть интересна историку, является предикат делать честь . В источниках этот предикат употребляется в разных кон
текстах и, по-видимому, в зависимости от контекста имеет различный смысл.
Будучи ограничены рамками статьи, мы остановимся только на одном историческом периоде – начале XIX века, и будем рассматривать употребление данного предиката применительно к этому периоду.
Для примера возьмем два предложения, содержащие этот предикат, и постараемся определить его семантику1.
-
(1) «Главнокомандующий подошел с Штейн-гейлем и со мной к карте, велел все показать по ней: атаку и защищение, сделал при том мне честь, спросил мои мысли и предположения»2.
-
(2) «Я видел молодого Шереметева, получившего большую рану саблей по лицу: подобная рана всегда делает честь кавалерийскому офицеру»3.
Семантику мы будем описывать как синтаксис, при этом синтаксическую структуру будем представлять в виде дерева зависимостей [2; 255], [3; 78]. Часть формального аппарата статьи может быть опущена. Однако в статье он при- сутствует исходя из необходимости демонстрации применения лингвистических методов к историческому материалу.
Рассмотрим интересующий нас предикат.
Предикат
делать честь
является двухвалентным:
делать честь
В (1) и (2) переменные предиката принимают значение на разных множествах. В (1) – на множестве одушевленных существительных, в (2) – на множествах одушевленных и неодушевленных существительных, что структурно может быть представлено в виде следующих дистрибутивных конструкций:
-
(1) N 1na VN a2i N 3da
-
(2) N 1ni VN a2i N 3da
Вслед за Ю. Д. Апресяном мы считаем, что различие между двумя лексическими значениями, если оно релевантно в данном языке, отражается в существенных структурных различиях. Таким образом, всякий раз, когда мы устанавливаем существенное структурное противопоставление, мы можем предполагать, что тем самым устанавливается и важное семантическое различие, то есть различие по крайней мере двух самостоятельных значений [6; 143].
Все это дает нам основание предполагать, что семантика интересующего нас предиката в первом примере отличается от семантики во втором примере.
Рассмотрим синонимический ряд лексемы честь . В синонимический ряд лексемы честь , согласно Словарю Академии Российской (1789– 1794), входили следующие слова - почтение, уважение, слава, чин, достоинство 4 .
Словарные данные подтверждаются прецедентными текстами. Так, согласно книге «Наука быть учтивым», слово нечестно является синонимом слова «неуважительно»: «Надобно беречься, чтоб не дремать, не потягиваться и не зевать в то время, как другие говорят, это весьма нечестно»5. Предикат быть честнее является синонимом предиката быть выше чином : «То есть противно учтивости, когда кто скажет другому, который его честнее, чтоб он накрыл голову»6. В книге С. Н. Глинки «Зеркало нового Парижа» лексема честь также является синонимом понятий чин , достоинство : «В Париже достоинство измеряется богатством. О том и слова не молвят, у кого доходу только три тысячи франков. У кого десять тысяч франков доходу, тот честной человек. У кого пятнадцать тысяч, тот еще честнее»7. Синонимию лексем честь и уважение находим и в записной книжке А. С. Шишкова. По его определению, «безчес-тен – ни кем не почитаем, никому не приметен, безславен, лишен почестей»8.
Приведенные примеры подтверждают словарное определение лексемы честь .
Заменим во фразе генерал делает честь офицеру компонент честь на его синонимы:
-
(1.1) ? Генерал делает почтение/уважение офицеру
-
(1.2) * Генерал делает славу офицеру
-
(1.3) * Генерал делает достоинство/чин
офицеру
В контексте (1) фразы (1.2) и (1.3) являются неприемлемыми, а фраза (1.1) – сомнительной (а значит, возможной).
Применим к (1.1) правило синонимичного перифразирования X о- Oper —— ^ S 0 (X). Получим: генерал уважает офицера .
Таким образом, для (1) семантика предиката делать честь будет следующей:
уважать ↓ ↓ генерал офицер
Теперь, зная семантику интересующего нас предиката и учитывая контекст предложения (1), можно уточнить смысл этого предложения: «Главнокомандующий подошел с Штейнгейлем и со мной к карте, велел все показать по ней: атаку и защищение, проявив при том ко мне уважение , спросил мои мысли и предположения».
Заменим во фразе рана делает честь офицеру компонент честь на его синонимы:
-
(2.1) ? рана делает почтение/уважение офицеру
-
(2.2) ? рана делает славу офицеру
-
(2.3) * рана делает достоинство/чин офицеру
В контексте (2) фраза (2.3) является неприемлемой, а фразы (2.1) и (2.2) – возможными.
Фраза (2.1), учитывая контекст предложения (2), может быть перифразирована так: за рану офицера уважают . С исторической точки зрения при таком перифразировании не ясно, на каком множестве (или, возможно, множествах) принимают значения переменные предиката уважать .
Для выявления искомого множества (или множеств) рассмотрим, на кого распространялись отношения чести в интересующее нас время.
В начале XIX века лексема честь употреблялась в сочетании с лексемой благородство. Так, например, в статье под названием «Гражданский катехизис…», опубликованной в журнале «Сын Отечества», сказано: «Кто лучший и благороднейший сын отечества? Тот, который ведет себя с большей честию»9. Юнкер А. Мартос, говоря о медицинских сестрах, работавших в Виленской больнице, пишет: «…сердобольные сестры материнские… исполняют с кротостью цель великую и благороднейшую: они в полном смысле слова помогают страждущим. Какое обширное предстоит поле для размышлений честному че-ловеку»10. О связи лексем честь и благородство говорят также частые случаи их совместного использования в текстах. Подпоручик В. С. Но- ров писал из армии в октябре 1812 года матери: «Мы, русские, и воспитаны в честных и благородных правилах»11. По мнению майора 1-й конно-артиллерийской роты П. Г. Волховского, умение сохранить в ситуации опасности «присутствие духа» есть «долг истинно честного и благородного человека»12.
Все это позволяет говорить о том, что лексема честь была связана с лексемой благородство . Рассмотрим трактовку понятия благородство .
Понятие благородство подразумевало принадлежность к дворянскому («благородному») сословию. Согласно Словарю Академии Российской, синонимом понятия благородный является понятие дворянский13. В Манифесте Александра I от 6 июля 1812 года только дворянское сословие названо благородным, к духовенству и «народу русскому» такие эпитеты не при-менены14. Корреляция понятий благородство и дворянство видна в записках Ф. Н. Глинки. Говоря о дворянских семьях, покидавших театр боевых действий в 1812 году, Ф. Н. Глинка применяет по отношению к ним эпитет благородные: «Я только видел большие барки, на которых благородные семейства со всем домом, с каретами, лошадьми и прочим, тянулись вниз по ре-ке»15. Воспитанник первого кадетского корпуса К. Зендельгорст называет дворянских детей «благородным юношеством»16.
Все это позволяет нам говорить, что отношения чести распространялись в начале XIX века на благородное сословие (дворянство).
Принимая это во внимание, мы можем уточнить семантику интересующего нас предиката для конструкции N1 n aVN a 2iN3 d a , добавив, что переменные предиката уважать принимают значения на множестве благородных людей.
уважать ↓ ↓ x быть раненым
↓ y
Представляется, однако, что семантика предиката делать честь в (2) еще не выявлена в должной мере, так как не ясно, почему переменные x и быть раненым (у) связаны отношением уважения. Заметим, что это отношение не обязательно симметрично. Для ответа на этот вопрос рассмотрим качества, которыми обязательно должен был обладать офицер.
От офицера в рассматриваемое нами время требовалось проявление храбрости. Офицеры ревностно относились к этому качеству и постоянно анализировали свое поведение в ситуациях, когда возникали вопро сы о его соответствии принятым нормам. Так, например, поручик 26-го егерского полка А. И. Антоновский, ана- лизируя свое поведение в бою у деревни Ропны 4 августа 1812 года, отмечал: «Я испытал свое хладнокровие и распорядительность и, выдержав с мужеством губительный огонь, не оставил своего места. Это все уверяло меня, что я впоследствии могу иметь способности воина, и чего более – довольно и предовольно»17. Подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка Л. А. Симанский не без гордости отмечал, что во время Бородинской битвы он простоял под ядрами четырнадцать часов и «был хладнокровен, с назначенного места не сходил ни шагу, людей ободрял»18.
В характеристиках, даваемых офицерами своим сослуживцам (причем независимо от звания), преобладает оценка не по профессиональным, а по нравственным качествам. При этом основным критерием оценки выступала храбрость. Прапорщик лейб-гвардии артиллерийской бригады Н. А. Дивов, говоря о своем сослуживце П. Х. Граббе, среди его достоинств отмечает, прежде всего, храбрость и «живую отважность»19. Сам П. Х. Граббе, характеризуя генерала Коновницына, отмечает не его военные дарования, а его мужество20. Поручик Л. Ф. Яро-шевицкий, говоря о каче ствах генерала Хилко-ва, отмечает только его храбрость21. В «Письме русского офицера», опубликованном в «Сыне Отечества» в 1813 году, автор – анонимный армейский офицер – говоря о командирах, отмечает только одно их качество – храбрость. Все остальные качества, которыми могут обладать командующие, не являются, по-видимому, для офицера значимыми, и он о них умалчивает. Так, например, о генерале А. И. Чернышеве сказано, что он «предавался величайшей опасности с удивительным хладнокровием»22.
Некоторые недостатки характера могли быть терпимы в офицерской среде, если человек был храбр. Так, например, поручик Гродненского гусарского полка А. В. Кочубей, вспоминая своего генерала Ф. В. Редигера, писал, что он был нелюбим офицерами «за его капризный, мелочный и недостаточный характер, но его храбрость заставляла забывать его недостатки, и за нее все его уважали»23.
Поскольку всякий благородный человек (в том числе и офицер) должен был быть храбрым, то становится ясно, почему благородные люди уважали раненого офицера – рана свидетельствовала о храбрости и, следовательно, о благородстве офицера.
Поэтому семантика интересующего нас предиката в (2) будет следующей:
свидетельствовать
↓ ↓ рана быть благородным
↓ офицер
Перифразированный предикат может быть подставлен в предложение (2), уточняя его смысл: «Я видел молодого Шереметева, получившего большую рану саблей по лицу: подобная рана свидетельствует о благородстве кавалерийского офицера».
Рассмотрим фразу (2.2). Согласно Словарю Академии Российской, слава имеет следующие определения:
-
1. Общепризнаваемая, придаваемая честь, похвала, уважение, славное имя, приобретаемое добродетельно, заслугами, высокими качествами, отменными деяниями, изящными сочинениями и проч.;
-
2. Великолепие, величество, блистательность;
-
3. Блаженство небесное, райское;
-
4. Хвала 24 .
Учитывая контекст предложения (2), второе и третье определения не подходят по смыслу. Поэтому фраза (2.2) может быть перифразирована таким образом: офицер, имеющий такую рану, заслуживает уважения (похвалы, хвалы). Лексему честь , несмотря на то что она является, согласно словарю, синонимом славы, мы отбрасываем, так как она, во-первых, вводит нас в ситуацию замкнутого круга (честь – слава – честь), а во-вторых, не проясняет семантику славы , ввиду того что семантика лексемы честь не проще семантики лексемы слава .
Поэтому семантика предиката для (2.2) будет следующей:
заслуживать уважения ↓ ↓ офицер рана
Из словарного определения видно, что офицера уважают не за то, что рана свидетельствует о благородстве, как мы считаем применительно к фразе (2.1), а за то, что рана свидетельствует о заслугах, высоких качествах, отменных деяниях.
Ввиду этого мы можем говорить, что предикат в предложении (2) имеет, по крайней мере, два смысла. (Исходные моменты для определения семантики при нашем подходе задаются в конечном счете синонимическим рядом, который мы построили на материале одного соответствующего эпохе словаря и ряда прецедентных текстов. Привлечение других источников может дополнить синонимический ряд, что приведет к выявлению дополнительных смыслов интересующего нас предиката.)
При таком подходе возможно определять семантику любых других предложений, соответствующих конструкциям
N1naVNa2iN3da и N1niVNa2iN3da , где VN2i соответствует словосочетанию делать честь.
Семантика предиката делать честь для конструкции N1 n aVN a 2iN3 d a может быть записана в общем виде:
уважать ↓ ↓ x y
Семантика предиката делать честь для конструкции N1 n iVN a 2iN3 d a будет следующей:
-
1. свидетельствовать
-
2. заслуживать уважения
↓ ↓ x быть благородным
↓ y
x е BУ е А,
где B - множество неодушевленных существительных, которые имеют пассивные синтаксические валентности по отношению к предикату свидетельствовать; А - множество благородных людей.
↓ ↓ x y
x е A
У ' B , где А - множество людей; B - множество существительных и глаголов, которые имеют пассивные синтаксические валентности по отношению к предикату свидетельствовать .
Мы не претендуем на полноту, точность и окончательность выводов. Наша задача заключалась в том, чтобы показать возможные пути применения методов лингвистики к историческому материалу.
Представляется, что лингвистика дает историку четкий алгоритм работы с текстом источника в тех случаях, когда необходимо выявить семантику той или иной языковой конструкции. Формализация естественного языка исторического источника позволяет однозначно и неизбыточно описывать семантику, с которой удобно работать в дальнейшем, в частности, строить различного рода обобщения.
Примененные в нашей работе лингвистические подходы к историческому материалу выявляют специфические задачи, решение которых находится на стыке истории и лингвистики. К числу таких задач можно отнести определение множеств, на которых принимают значения переменные того или иного предиката, содержащегося в тексте исторического источника.
Список литературы О применении лингвистических методов в историко-антропологических исследованиях (на примере определения семантики предиката делать честь)
- Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 859. К. 1. № 11. Л. 23 об.
- Левенштерн В.И. Записки генерала В.И. Левенштерна//Русская старина. 1900. Ноябрь. С. 579.
- Словарь Академии Российской. Ч. VI. СПб., 1794. С. 725.
- Наука быть учтивым. СПб., 1774. С. 23.
- Наука быть учтивым. СПб., 1774. С. 11.
- Глинка С.Н. Зеркало нового Парижа от 1789 до 1809 года, изданное Сергеем Глинкою. М., 1809. Ч. 1. С. 16.
- Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 862. Д. 3. Л. 3.
- Гражданский катехизис, или Краткое обозрение должностей Испанца, с показанием, в чем состоит свобода и кто враги его//Сын отечества. 1812. Ч. 1. № 1. С. 63.
- Мартос А.И. Записки инженерного офицера Мартоса о Турецкой войне в царствование Александра Павловича 1806-1812 (до 1818)//Русский архив. 1893. № 8. С. 506.
- Письмо В.С. Норова родным от 10 октября 1812 г. на поле при р. Наре//К чести России. Из частной переписки 1812 года. М., 1988. С. 153.
- Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 859. K. 1. № 11. Л. об.
- Словарь Академии Российской. Ч. 5. СПб., 1794. С. 36.
- Манифест от 06.07.1812 г.//Шишков А.С. Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлин, 1870. С. 427.
- Глинка Ф. Н. Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год//Глинка Ф. Н. Письма русского офицера; Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия. Киев, 1991. С. 163.
- Зенгельгорст К. Первый кадетский корпус в 1813-1825 гг. Воспоминания бывшего воспитанника//Русская старина. 1879. Т. 24. № 2. С. 312.
- Антоновский А.И. Записки//Харкевич В.И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Вып. 3. Вильно, 1904. С. 105.
- Симанский Л.А. Журнал участника войны 1812 года//Военно-исторический сборник. 1913. № 2. С. 166.
- Дивов Н.А. Из воспоминаний//Русский архив. 1873. Кн. 2. № 7. Стлб. 01333.
- Граббе П.Х. Из памятных записок//Русский архив. 1873. Кн. 1. Стлб. 456.
- Российский государственный военно-исторический архив. Ф. ВУА. Д. 3376. Ч. 3. Л. 418 об.
- Письмо русского офицера из армии от 22 мая//Сын Отечества. 1813. № XXIX. С. 95.
- Кочубей А.В. Семейная хроника: Записки А.В. Кочубея. СПб., 1890. С. 89.
- Словарь Академии Российской. Ч. 5. СПб., 1794. С. 512.
- Апресян Ю.Д. О понятиях и методах структурной лексикологии (на материале русского глагола)//Проблемы структурной лингвистики. М., 1962. С. 141-162.
- Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М.: Просвещение, 1966. 302 с.
- Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка//Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1995. 472 с.
- Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М.: Языки славянской культуры, 2001. 287 с.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. 351 с.
- Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во Московского ун-та, 1979. 319 с.
- Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи//Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. С. 26-203.
- Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998. 448 с.
- Юрганов А.Л., Каравашкин А.В. Опыт исторической феноменологии: Трудный путь к очевидности. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003. С. 312-337.