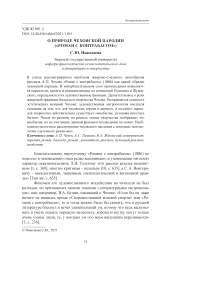О природе чеховской пародии ("Роман с контрабасом")
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблема жанрово-стилевого своеобразия рассказа А.П. Чехова «Роман с контрабасом» (1886) как яркий образец чеховской пародии. В интертекстуальном слое произведения выявляются параллели, цитаты и реминисценции из сочинений Пушкина и Жуковского, определяются их художественные функции. Делается вывод о роли жанровой традиции баллады в творчестве Чехова. Раскрывается сущность эстетических исканий Чехова: художественная антропология писателя основана на том, что для чеховских героев и раннего, и позднего периодов творчества действительно существует «инобытие, духовная ипостась бытия». Чехов по-разному на разных этапах творчества изображает это инобытие, но не учитывать данный феномен чеховедение не может. Необходимо целостное рассмотрение чеховского наследия с помощью методологии «духовного реализма».
А.п. чехов, а.с. пушкин, в.а. жуковский, интертекст, пародия, роман, баллада, романс, романтизм, реализм, духовный реализм, инобытие
Короткий адрес: https://sciup.org/146282278
IDR: 146282278 | УДК: 82.091-3 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.051
Текст научной статьи О природе чеховской пародии ("Роман с контрабасом")
Блистательному, виртуозному «Роману с контрабасом» (1886) не повезло: в чеховедении о нем редко вспоминают, и упоминания эти носят характер окказионализмов. Л.Н. Толстому этот рассказ казался непонятным [1, с. 369], многим критикам – нелепым [10, с. 635], а С. А. Венгеровичу – анекдотичным, лишенным «психологической и жизненной правды» [Там же, с. 635].
Феномен его художественного воздействия на читателя не был разгадан, но признавался такими тонкими «литературными гастрономами», как, например, И А. Бунин, писавший о Чехове: «Если бы он даже ничего не написал, кроме «Скоропостижной конской смерти» или «Романа с контрабасом», то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумывать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум «по всем жилушкам переливается» [3, с. 236].
Бесспорно, литературное мышление Чехова проявилось здесь в необычайно концентрированной форме: текст «Романа с контрабасом» перенасыщен цитатами, реминисценциями, штампами, поэтической фразеологией. Количество при этом переходит в качество: подобно тому, как в пересыщенном химическом растворе начинают возникать кристаллы удивительно совершенной формы, так и в чеховском произведении постепенно проясняется «магический кристалл» авторского замысла.
Установка на литературную игру задается уже в заглавии. Чехов явно использует каламбур и рассчитывает, что читатель ощутит весь его смысловой художественный регистр. «Роман с контрабасом» – словосочетание совсем не романное, не соответствующее стилистике традиционных заглавий. Конечно, в первую очередь возникает «жанровое ожидание», связанное со словом «роман», – очевидно, Чехов представит вновь «нечто романообразное», очередную пародию на роман, в которой комический эффект знаково закреплен за вроде бы случайной, немотивированной предметно-бытовой деталью – контрабасом. Пародийность названия обусловлена тем, что маркируется не персонаж, не проблема, не нравственная категория, не место действия, не событие, а, по принципу метонимии, один из неотъемлемых атрибутов главного героя-контрабасиста. Эта обусловленность подкрепляется в процессе повествования тем, что музыкальный инструмент действительно приобретает едва ли не большее значение, чем сам музыкант. Громоздкий и тяжелый, контрабас мешает Смычкову, оказавшемуся в беде, «искать выхода из своего ужасного положения» [10, с. 180]. Футляр от контрабаса становится приютом и спасением для несчастной княжны Бибуловой. Изящные формы княжны соответствуют плавным линиям футляра, но контрастируют неказистому облику самого Смычкова, что предвосхищает неизбежную разлуку героев, невозможность их счастливого соединения. Наконец, именно разговор о контрабасе между женихом княжны с одним из гостей приводит к тому, что героиня, пережив все злоключения, оказывается в объятиях домочадцев.
Контрабас скрепляет между собой все сюжетные повороты, все фрагменты повествования. Это чисто внешнее, условное соединение. Но таковым оно представляется, только если считать «Роман с контрабасом» пародией на роман, чем-то «романообразным» – например, конспектом, наброском большого романа.
Вообще в рассказе много типично романных и общелитературных штампов: «…воспоминание детства, тоска о минувшем, проснувшаяся любовь… Боже, а ведь он думал, что он уже не в состоянии любить!»; «он потерял веру в человечество»; «горячо любимая жена бежала с его другом» [Там же, с. 179]; «бедный и незнатный контрабасист должен был сыграть в жизни знатной и богатой красавицы важную роль»; «мой герой… предается скорби» [Там же, с. 180]; «злая судьба стерегла ее»; «вскрикнула и ли- шилась чувств» [Там же, с. 181]; «профанировать святое искусство»; «За то теплое участие, которое я принял в судьбе княжны, Бибулов наверно щедро наградит меня» [Там же, с. 182]; «счастливая игра случая» [Там же, с. 183].
Сюжетная канва любовно-приключенческого романа восстанавливается с помощью этих клише очень легко. Но роль предметной детали – контрабаса – остается необъясненной, хотя и очевидной. Вещное окружение человека в русской классике могло приобретать самостоятельное, субстанциальное значение (достаточно вспомнить халат Обломова, старинные часы Коробочки, пепельницу в виде лаптя на столе у Павла Петровича Кирсанова), но всегда оно было связано с авторской концепцией человеческого характера. Чехов же в данном случае не ставит перед собой задачу раскрытия характеров Смычкова или Бибуловой, задачу создания типа (типажа). Но, может быть, он не преследует и такой цели, как пародирование романа, или, по крайней мере, не ограничивает свой замысел этой целью?
Каламбурное заглавие чеховского рассказа может быть прочитано и так (учитывая склонность Чехова к каламбурам, словесной игре): «романс контрабасом», т.е. «романс, исполненный на контрабасе». Между прочим, такая трактовка (по принципу кольцевой композиции) подтверждается финальным разговором о музыке, который при ином прочтении просто теряет смысл:
«Говорили о музыке.
– Я, граф, – говорил Лакеич, – в Неаполе был лично знаком с одним скрипачом, который творил буквально чудеса. Вы не поверите! На контрабасе… на обыкновенном контрабасе он выводил такие чертовские трели, что просто ужас! Штраусовские вальсы играл!
– Полноте, это невозможно… – усумнился граф.
– Уверяю вас! Даже листовскую рапсодию исполнял! Я жил с ним в одном номере и даже, от нечего делать, выучился у него играть на контрабасе рапсодию Листа» [Там же, с. 183].
Вопреки обыкновению, чеховские герои допускают, что и контрабас при определенных условиях годится для исполнения вальсов, рапсодий и, видимо, романсов.
Вальс, рапсодия, романс – жанры музыки и поэзии, в которых возникает романтическое мироощущения, сгусток лиризма, яркое самовыражение души и любовных переживаний. Второй вариант прочтения чеховского заглавия – «Романс контрабасом» – ориентирует на восприятие «поэтизмов», которыми изобилует текст, он становится маркером поэтической, и прежде всего романтической, традиции.
Этот литературный слой представлен такими фразами, как «прохладные воды», «прохладные струи», «гармония окружающего», «наплыв… чувств», «спящая красавица», «глубокий вздох», «чудное виде- нье»; «сюрприз от неизвестного», «неизвестные злодеи»; «эфирные одежды», «прекрасное тело», «мраморные плечи» [Там же, с. 179–181] и т.д.
Однако присутствие в тексте Чехова мощного пласта поэтизмов далеко не всегда сопровождается и окрашивается авторской иронией, а зачастую ироничность соседствует с «высокой поэтической струей». «Особенность этого сосуществования в том, что она не перебивается, не снижается деталями бытовыми, а… живет рядом как равноценная и равнодостойная» [11, с. 121]. Иначе говоря, помимо пародийного замысла, направленного на литературный штамп, разрушающего старую эстетику – эстетику жанра эпигонского романа и романса (в том числе и «жестокого») – Чехов должен был создавать и новую, собственную эстетику, свою концепцию мира, а значит, и жанра.
Авторское начало, «область серьеза», как это ни удивительно, ассоциируются в рассказе с образом контрабаса. Автопсихологичность, даже автобиографичность образа подтверждается свидетельствами мемуаристов и самого Чехова. Известен интерес писателя к музыке, его юношеские попытки научиться играть на скрипке и контрабасе. Известно, что Чехов сам именовал себя «литературным контрабасом» – возможно, потому, что голос у него был «низкий бас с густым металлом; дикция настоящая русская, с оттенком чисто великорусского наречия; интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, уж конечно, без тени искусственности» [1, с. 423], а также потому, что в юмористике своей он снижал «завышенные» литературные ноты, избыточный пафос, шаблонный романтизм.
Заглавием «Роман с контрабасом» Чехов намекает, что «литературный контрабас» должен «сыграть» нечто новое, предложить иную аранжировку старых, привычных мелодий, исполнить в новой – более «низкой» – тональности известный сюжет.
Образ автора в «Романе с контрабасом» приобретает важнейшее значение, именно он определяет жанровую структуру произведения, выступая в двух основных ипостасях.
Во-первых, автор выступает в роли повествователя, организующего ход рассказа, процесс рассказывания. При этом он оказывается полемистом, отчасти морализатором и постоянно нарушает жанровые ожидания читателя. Судя по всему, при создании образа рассказчика Чехов ориентировался на «узус интеллигентской речи 70–80-х годов XIX в. с ее повышенной эмоциональностью, широким использованием специфической «высокой» публицистической фразы» [11, с. 119], о чем свидетельствуют такие выражения: «потерял веру в человечество»; «в голове его мелькнула идея»; «ибо одежда тленна»; «преступить против общественной нравственности»; «предается скорби»; «выход из <…> ужасного положения»; «эксцентричная девушка»; «терпение и труд взяли свое» [10, с. 179–181].
Рассказчик трижды вступает в непосредственный диалог с читателем, так как не желает «преступать против общественной нравственности» и вынужден объяснять логику своего повествования, заставлять читателя самостоятельно домысливать недосказанное. В первом случае он поясняет невозможность завершения романтической истории в самом начале, невозможность ограничиться только лишь описанием «чудного мгновенья» (а тем самым и невозможность романсной ситуации): «Благоразумие, законы природы и социальное положение моего героя требуют, чтобы роман кончился на этом самом месте, но – увы! – судьба автора неумолима: по не зависящим от автора обстоятельствам роман не кончился букетом. Вопреки здравому смыслу и природе вещей, бедный и незнатный контрабасист должен был сыграть в жизни знатной и богатой красавицы важную роль» [Там же, с. 180]. Во втором случае, как бы боясь наскучить читателю созерцанием обнаженного Смычкова, повествователь переключает внимание читателя на героиню: «Теперь, читатель, пока мой герой сидит под мостом и предается скорби, оставим его на некоторое время и обратимся к девушке, удившей рыбу. Что сталось с нею?» [Там же]. Наконец, третье обращение к читателю возникает в финале – когда автор избегает драматической сцены появления нагой княжны Бибуловой из футляра контрабаса: «Но тут, пока читатель, дав волю своему воображению, рисует исход музыкального спора, обратимся к Смычкову» [Там же, с. 184].
Вторая ипостась образа автора в произведении проявляется в том, что он скрепляет не только фрагменты повествования между собой, но и интригу; он усиливает напряженность действия, драматизирует поведение героев, их речь и поступки. Иначе говоря, автор выступает и как повествователь, и как драматург, синтезируя эпическое и драматическое начала.
Голос рассказчика – полемиста, блюстителя нравов, звучит в потоке реплик и сентенций «интеллигентского» плана, голос «драматурга» сливается с «голосом контрабаса», музыкального инструмента, сыгравшего роковую роль в судьбах Смычкова и княжны Бибуловой. Контрабас, можно сказать, «ведет свою партию»: он способствует знакомству героя и героини и закрепляет это знакомство (чтобы не напугать княжну и успокоить ее нравственное чувство, Смычков предлагает ей спрятаться в футляре от контрабаса: «Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь в моем футляре, как у себя дома!» [Там же, с. 182]); он становится и причиной страшной разлуки Смычкова с красавицей (флейта Жучков и кларнет Раз-махайкин невольно похищают княжну вместе с футляром, полагая, что в футляре находится инструмент, и называя свою тяжелую ношу «идолищем» [Там же, с. 183]); он участвует в знаменитой сцене обнаружения женихом Лакеичем своей невесты в присутствии графа Шкаликова и в самом неподобающем виде [Там же, с. 184]; наконец, «хрипение контрабаса» в финальной строке напоминает о незавершенности любовной интриги.
«Роман с контрабасом» представляет собой двуголосую партитуру: здесь одновременно сосуществуют, переплетаясь и взаимодействуя, обыденное и необычное, низкое и высокое, прозаическое и поэтическое, дидактическое и чувствительное, реальное и фантастическое. Каков же результат этого взаимодействия? В какую сторону качнутся весы? Как автор разрешает описанное противоречие и какова его позиция (которую, конечно, нельзя отождествлять ни с одним из названных голосов)?
Ответ на эти вопросы почти невозможен без определения литературных источников рассказа и сопоставительного анализа их текстов.
Такими источниками оказываются две баллады: «Рыбак» В.А. Жуковского (1818) и «Русалка» А.С. Пушкина (1819). Обращение к ним оправдано уже тем, что художественный мир романтизма памятен Чехову, и его отблески присутствуют в рассказе [9]. Смычков цитирует драму Шиллера «Разбойники» («О, люди, порождение ехидны!» [Там же, с. 180]) и пользуется поэтической фразеологией Пушкина и Жуковского («Прощай, чудное виденье!» [Там же, с. 179]).
Создатель «Романа с контрабасом» контаминировал мотивы обеих названных баллад (показал и «рыбака» Смычкова, и «русалку» княжну Бибулову), великолепно справившись с жанровым заданием и написав свой вариант «баллады в прозе».
Жанр литературной баллады своим возникновением и утверждением обязан, помимо народного творчества, искусству романтиков, в том числе Гете, утверждавшего, что поэт в балладе может пользоваться «всеми тремя основными видами поэзии, чтобы прежде всего выразить то, что должно возбуждать воображение и привлекать внимание; он может начать эпически, лирически, драматически и, меняя по желанию формы, продолжать, спешить к концу или отодвигать его все дальше и дальше» [12, с. 554].
«Рыбак» Жуковского – вольный перевод одноименной баллады Гете – представляет собой оригинальную реализацию этих принципов. Жуковский «начинает лирически»:«Бежит волна, шумит волна! / Задумчив, над рекой / Сидит рыбак; душа полна / Прохладной тишиной. / Сидит он час, сидит другой; / Вдруг шум в волнах притих… / И влажною всплыла главой / Красавица из них» [5, с. 246].
Символический образ тишины, отсутствующий у Гете, создается Жуковским совершенно самостоятельно [Там же, с. 24] и помогает выразить ощущение надвигающейся на героя драмы. Зеркало вод становится гранью, разделяющей мир тот и этот, «очарованное там» и земную юдоль. Романтическое двоемирие Жуковского не остается статичным: «высший мир божественной красоты» [Там же] вступает в конфликт с миром земным, очаровывает героя, пленяет его, подчиняет себе его душу и … увлекает в свои просторы:«Бежит волна, шумит волна… / На берег вал плеснул! / В нем вся душа тоски полна, / Как будто друг шепнул! / Она поет, она манит – / Знать, час его настал! / К нему она, он к ней бежит… / И след навек пропал» [Там же, с. 246].
«Русалка» Пушкина – явный диалогический отклик на стихотворение Жуковского. Юный Пушкин переносит акцент с героя на героиню, тщательно прорисовывает облик русалки, сокращает ее монолог (по сравнению с Жуковским) до краткой реплики, но зато драматизирует ее поведение и усиливает степень влияния ее красоты на человека, избирая в качестве героя монаха.
Пушкин «начинает эпически»: «Над озером, в глухих дубровах, / Спасался некогда монах, / Всегда в занятиях суровых, / В посте, молитве и трудах. / Уже лопаткою смиренной / Себе могилу старец рыл – / И лишь о смерти вожделенной / Святых угодников молил» [7, с. 363].
Повествовательность необходима в данном случае именно потому, что Пушкин существенно дополняет и переосмысливает сюжет Жуковского: красота способна очаровать даже святого старца. Пушкинская героиня обольщает, совращает героя, вводит его в грех: «Глядит, кивает головою, / Целует издали шутя, / Играет, плещется волною, / Хохочет, плачет, как дитя, / Зовет монаха, нежно стонет… / “Монах, монах! Ко мне, ко мне!.” / И вдруг в волнах прозрачных тонет; / И все в глубокой тишине» [Там же, с. 364].
«Тишина» Жуковского сохраняется у Пушкина и тоже символизирует приближение катастрофы, но теперь эта катастрофа сопровождается полным преображением героя: мы последовательно видим его в облике смиренного старца, святого угодника, анахорета, старого монаха, «старика угрюмого», наконец, «отшельника страстного ». Святость и смирение героя вытесняются «угрюмостью» и даже «страстностью». Победу одерживает не небесное, а вполне земное начало, не божественное, а греховно-человеческое, но Пушкин, как и Жуковский, остается верен принципу поэтической недоговоренности: «На третий день отшельник страстный / Близ очарованных брегов / Сидел и девы ждал прекрасной, / А тень ложилась средь дубов… / Заря прогнала тьму ночную: / Монаха не нашли нигде, / И только бороду седую / Мальчишки видели в воде» [Там же].
Превращение святого в грешника – «и все в глубокой тишине» – вот предмет романтической рефлексии Пушкина. Высокую тональность стихотворения Жуковского его победитель-ученик снижает, приземляет. У Жуковского речные волны отражают солнце, небо, красоту молодости и тем самым завораживают: «Не часто ль солнце образ свой / Купает в лоне вод? / Не свежей ли горит красой / Его из них исход? / Не с ними ли свод неба слит / Прохладно-голубой? / Не в лоно ль их тебя манит / И лик твой молодой?» [5, с. 246].
Пушкин выбирает иное время действия – не день, а ночь, иное место действия – не берег реки, а озеро «в глухих дубровах», он не «освещает», а «затемняет» изображение: «… Дубравы делались черней; / Ту- ман над озером дымился, / И красный месяц в облаках / Тихонько по небу катился…» [7, с. 364]
Пушкин утрирует идею двоемирия, согласно которой окружающий человека мир хранит некую тайну, и присоединяется к народной мудрости (тем более что образ русалки обязан своим происхождением фольклорной традиции): «в тихом омуте черти водятся». «Тишина» Жуковского позволяет услышать «невыразимое», пушкинская же «тишина» в конце концов прорывается «страстью» отшельника и раскрывает тайну не мира, но человека.
Чехов мастерски использовал и по-своему переосмыслил все мотивы, которые были подсказаны ему «Рыбаком» и «Русалкой».
Романтическое всегда присутствует в обыденном, нужно лишь почувствовать его. Обыденность в «Романе с контрабасом» чисто чеховская: музыкант Смычков нанят князем Бибуловым на время вечера «с музыкой и танцами». Один из типичных интеллигентов-восьмидесятников, зарабатывающий себе на жизнь, обманутый другом и покинутый женой, «потерявший веру в человечество», вынужден служить сильным мира сего и «профанировать святое искусство». Из мира пошлости он хотел бы вырваться и попасть в тот мир, который кажется ему подлинным, идеальным, романтическим. И стоило герою попасть в шаблонную ситуацию, описанную в балладах Жуковского и Пушкина, как «поэтическая душа Смычкова стала настраиваться соответственно гармонии окружающего» [10, с. 179].
Суть чеховского эксперимента в том, чтобы проследить, в какой степени оправдываются реальной жизнью романтические шаблоны. Все необходимые атрибуты Чехов воссоздает: герой и героиня встречаются у реки, и «прохладные струи» вполне могут заворожить, очаровать Смыч-кова; вечерняя тишина всячески подчеркивается, и Смычков старается ее не нарушать: он «притаил дыхание», «замер», «долго стоял… пожирая ее <красавицу. – С. Н. > глазами», «тихо подплыл» [Там же]. «Прохладная тишина» души балладного героя Жуковского сменяется у Пушкина иронично поданной «глубокой тишиной» (в этой самой «тишине» русалка «хохочет, плачет, как дитя»), а в рассказе Чехова вдруг приобретает гротескную форму – форму сна: красавица, встреченная Смычковым, оказывается спящей: «Нетрудно было заметить, что она спала» [Там же]. Формула «спящая красавица», использованная Чеховым и восходящая к стихотворным сказкам Жуковского и Пушкина, актуализирует новый смысловой оттенок в понятии «тишина»: волшебный сон – ожидание любви, и нарушить его может только любовь. Поэтому Смычков и оставляет красавице «сюрприз от неизвестного» – букет полевых и водяных цветов, связанный стеблем лебеды. Поэтическое чутье изменило Смыч-кову, ведь лебеда – сорная трава, не имеющая своего места в романтическом цветочном гербарии. Ошибка героя оказалась роковой и привела в конце концов к драме.
Смычков не видит грани между реальностью и иллюзией, сном и явью и путает их между собой, как и слова в языке цветов. Он не понимает, что спящая красавица – отнюдь не рыбка в водной глубине, даже не русалка, – она рыбачка , и Смычков легко попадается к ней на крючок. Правда, он герой не ее романа, ее избранник – Лакеич, и это само по себе опровергает иллюзии Смычкова.
Поступок героя в балладе Жуковского подсказан тайными внутренним голосом («Как будто друг шепнул»), в пушкинской балладе звучит открытый призыв русалки («Монах, монах! Ко мне , ко мне!..»), а чеховский герой оказывается ведом некой идеей: «И, еще раз взглянув на красавицу, он хотел уже плыть назад, как в голове его мелькнула идея. «Надо оставить ей о себе память! – подумал он. – Прицеплю ей что-нибудь к удочке. Это будет сюрпризом от неизвестного» [Там же, с. 180].
«Идея» Смычкова – представление о чистой, бескорыстной, идеальной любви, которой он лишен и о которой продолжает мечтать. Эта «идея» оборачивается для Смычкова катастрофой, крахом всей его жизни. Пока он собирает букет для княжны, «неизвестные злодеи» похищают его одежду. С этого момента начинается цепочка злоключений: пока герой «предается скорби», ограбленной становится и красавица; он и она поневоле встречаются под мостиком «в прохладных струях», стремясь скрыть свою наготу; Смычков пытается спасти княжну с помощью футляра от контрабаса, но, увлекшись погоней за ворами, лишается своей драгоценной ноши. Он ищет ее до полуночи, потом на рассвете, затем снова ждет ночи…
Идеалы любви и красоты настолько сильно властвуют над душой Смычкова, что он утрачивает чувство реальности. Когда он видит красавицу в непосредственной близости от себя, то реальность пугает его, девушка представляется ему сиреной, наядой, пришедшей увлечь и погубить. Героя Чехова – типичного чеховского интеллигента – прельщает не живая жизнь, а та, которая существует в мечтах и грезах. Житейское, реальное объяснение происходящему он отвергает, предпочитая верить в таинственное, фантастическое, умозрительное. Совсем не случайно автор вкладывает в уста Смычкова реплику: «Жизнь есть миф, мечта… чревовещание» [Там же, с. 179].
Жанровый эксперимент Чехова основывается на «синкретической природе литературной баллады», которая является «гибким и податливым жанром, утрачивает каноническую строгость, вследствие чего открывает широкие возможности для индивидуально-авторской инициативности» [4, с. 251]. Чехов пишет «балладу своего времени», сохраняя все признаки жанра (фрагментарность и вершинность повествования, драматизм событий и поступков героев, неожиданная развязка, двуплановость построения, ирония, эстетика случая [2] и труднопреодолимой ситуации [6], ориентация на таинственное и исключительное; характерно, что во многих рассказах Чехова само слово «баллада» является синонимом вымысла, например, в рассказе «Перед свадьбой» (1880): «Ложь! Баллада!»). Чехов использует все возможности жанра.
Особенно репрезентативен в этом отношении финал рассказа, отчетливо соотнесенный с финалами Жуковского и Пушкина. Баллада «Рыбак» заканчивается тем, что герой «растворяется», исчезает: «К нему она, он к ней бежит… И след навек пропал». В пушкинской «Русалке» происходит то же самое: «Монаха не нашли нигде, / И только бороду седую / Мальчишки видели в воде». Чехов повторяет этот мотив вплоть до отточий: «Хотя бы год искать, но я найду ее! <…> И теперь еще крестьяне, живущие в описанных местах, рассказывают, что ночами около мостика можно видеть какого-то голого человека, обросшего волосами и в цилиндре. Изредка из-под мостика слышится хрипение контрабаса» [10, с. 184].
Автор «Романа с контрабасом» опирается на традиции Жуковского и Пушкина и показывает нам героя, который пытается жить в условиях «двоемирия», пытается почувствовать и понять «невыразимое» и сталкивается с жестокой реальностью. Комическое и трагическое тесно переплетаются в этом рассказе. В середине 1880-х годов в чеховских произведениях пока еще зачастую доминирует стихия смеха, но трагический подтекст постепенно нарастает, писатель эволюционирует в сторону «се-рьёза». Суть эстетических исканий Чехова можно сформулировать так: художественная антропология писателя основана на том, что для чеховских героев и раннего, и позднего периодов творчества действительно «инобытие, духовная ипостась бытия не менее, а более реальна, чем видимая нам физическая материя, природный и социальный миры» [8, с. 71]. Чехов по-разному на разных этапах творчества изображает это инобытие, но не учитывать данный феномен чеховедение не может. Необходимо целостное рассмотрение чеховского наследия с помощью методологии «духовного реализма» [Там же, с. 72].
Список литературы О природе чеховской пародии ("Роман с контрабасом")
- А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М. : Гослитиздат, 1960. 824 с.
- Балашов Д. М. История развития жанра русской баллады. Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1966. 72 с.
- Бунин И. А. Собрание сочинений : В 9 т. Т. 9. М. : Худож. лит., 1967. 622 с.
- Гудкова С. П., Пивкина Е. В. Историко- и теоретико-литературные аспекты изучения жанра баллады // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 9. Ч. 2. С. 248–251.
- Жуковский В. А. Избранное Л. : Худож. лит., 1973. 454 с.
- Коровин В. И. Русская баллада и ее судьба // Воздушный корабль: Русская литературная баллада. М.: Детская лит., 1984. С. 3–16.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : В 10 т. Т. 1. М. : Гослитиздат, 1959. 643 с.
- Редькин В. А. Духовный реализм как художественный метод современной литературы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 71–78.
- Семенко И. М. Жизнь и поэзия Жуковского // Жуковский В.А. Избранное Л. : Худож. лит., 1973. 454 с.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем : В 30 т. М. : Наука, 1974–1983. Т. 5. 703 с.
- Чудаков А. П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М. : Сов. писатель, 1992. 320 с.
- Эолова арфа: Антология баллады. М. : Высш. школа, 1989. 670 с.