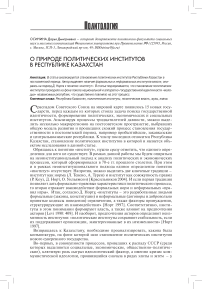О природе политических институтов в Республике Казахстан
Автор: Осинина Дарья Дмитриевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется становление политических институтов Республики Казахстан в постсоветский период. Автор выделяет наличие формальных и неформальных институтов власти, опираясь на подход Д. Норта к понятию «институт». В статье подчеркивается, что становление политических институтов проходило на фоне поиска национальной и аппаратно-государственной идентичности «молодых» независимых республик, что существенно повлияло на этот процесс.
Республика казахстан, политические институты, политическая власть, жузы, кланы
Короткий адрес: https://sciup.org/170193707
IDR: 170193707
Текст научной статьи О природе политических институтов в Республике Казахстан
С распадом Советского Союза на мировой карте появилось 15 новых государств, перед каждым из которых стояла задача поиска государственной идентичности, формирования политических, экономических и социальных институтов. Анализируя процессы тридцатилетней давности, можно выделить несколько макрорегионов на постсоветском пространстве, выбравших общую модель развития и прошедших схожий процесс становления государственности в постсоветский период, например прибалтийские, закавказские и центральноазиатские республики. К числу последних относится Республика Казахстан, становление политических институтов в которой и является объектом исследования в данной статье.
Обращаясь к понятию «институт», нужно сразу отметить, что единого определения для него не существует. В рамках данной работы мы будем опираться на неоинституциональный подход к анализу политических и экономических процессов, который сформировался в 70-е гг. прошлого столетия. При этом и в рамках неоинституционального подхода единое определение понятия «институт» отсутствует. Напротив, можно выделить две ключевые традиции – институт как норма (Л. Тевено, А. Турен) и институт как совокупность правил (Р. Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон) [Красильников 2004]. И если первая традиция позволяет дать формально-правовые характеристики политического процесса, то вторая отражает взаимодействие формальных норм и неформальных «правил игры». Итак, согласно Д. Норту, «институты – это разработанные людьми формальные (законы, конституции) и неформальные (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, а также факторы принуждения, структурирующие их взаимодействие» [Норт 1997]. Соответственно, институты в этом понимании формируют власть, а также влияют на предпочтения акторов [Levi 1990: 409]. И наоборот, предпочтения акторов определяют неизменность институтов: «политические институты сохраняют стабильность, если их поддерживают организации, заинтересованные в их неизменности» [Норт 1997].
Возвращаясь к Казахстану, необходимо проанализировать, какова была конъюнктура, на фоне которой шло становление политических институтов нового суверенного государства.
Во-первых, в совокупности процессов, приведших к распаду СССР (среди которых выделяются социальные, экономические, общественно-политические), ключевую роль сыграл идеологический фактор, а именно кризис коммунистической идеологии, проявившийся сначала в рядах элиты и затем – у
населения в середине 1970-х – начале 1980-х гг. Так, к началу 1970-х гг. внутри КПСС выделилось четыре течения – консерваторы, либералы, сталинисты и «почвенники», каждое из которых имело своих сторонников в Политбюро, а главное – свое видение развития государства: от ужесточения политического режима и возврата к сталинским методам управления до реформирования советской системы [Осинина 2020]. В итоге, отсутствие общей позиции относительно будущего государства, личные амбиции республиканских элит вкупе с позицией властей РСФСР, продвигавших идею российского суверенитета, сыграло особую роль в «декоммунизации» Советского Союза. В условиях кризиса коммунистической идеологии бывшие союзные республики встали перед проблемой поиска собственной национальной и аппаратно-государственной идентичности. Учитывая национальный подъем, охвативший все советские республики в 1986–1991 гг.1, выбор был сделан в пользу укрепления «титульного» компонента и построения «государства-нации» [Хрусталев 2005]. Так, в преамбуле к Конституции РК 1993 г. было прописано, что Казахстан является «формой государственности самоопределившейся казахской нации»2. После завершения первого этапа построения государственности – «консолидации титульных этносов» – подобные этнократические формулировки были исключены из Конституции. Формулировка «самоопределившаяся казахская нация» в новой Конституции 1995 г. была заменена на «мы, народ Казахстана»3. Однако в политической плоскости с 1991 г. и по сей день национальный фактор играет особую роль. За три десятилетия существования независимого Казахстана национальный состав управленческой элиты кардинально поменялся – на смену представителям нетитульной нации пришли этнические казахи. До января 2022 г. последним «русским» представителем в составе политического истеблишмента РК, занимавшим топовую позицию, был С.А. Терещенко (премьер-министр РК с октября 1991 г. по октябрь 1994 г.). В 2022 г. ситуация несколько меняется – в новом правительстве пост вице-премьера занял Роман Скляр. Тем не менее пока это назначение выглядит скорее как исключение и на выстроенную систему никак не влияет.
Во-вторых, национальный подъем периода перестройки активизировал деятельность традиционных структур общества, коими в Казахстане являются жузы. Основанные первоначально по родоплеменному принципу, со временем они в большей степени стали отражать территориальную привязку акторов. Так, представители Старшего жуза расположились на юге страны, Средний жуз охватывает центральную и северную части Казахстана, представители Младшего жуза проживают на западе страны. При этом на протяжении столетий за жузами была закреплена спецификация их деятельности: в предпринимательской сфере доминировал Старший жуз, благодаря своему ареалу проживания, близости к экономическим среднеазиатским центрам – Бухаре и Хиве, а в управленческой – Средний. Кадровая политика Москвы в советский период внутрижузовые расклады учитывала, и вплоть до середины прошлого столетия в управленческой сфере доминировал Средний жуз, чему также способствовало его территориальное расположение, а именно близость к РСФСР. Ситуация меняется после смерти И.В. Сталина в 1953 г., когда перестраивается система государственного управления, намечается определенная децентрализация в управлении республиками, трансформируется кадровая политика центра по отношению к союз- ным республикам. В итоге в 1960 г. Казахскую ССР возглавил Д. Кунаев, друг Л.И. Брежнева, представитель Старшего жуза. С этого времени и по сегодняшний день в политической системе Казахстана доминирует Старший жуз, к которому относятся и Н.А. Назарбаев, и К.-Ж. Токаев1.
Конечно, отношение к жузам в казахском обществе и среди элиты за последние годы менялось. Например, советская власть наличие традиционных структур в лице жузов признавала, что доказывается принципами кадровой политики центра в отношении Казахской ССР, но публично о них никто не говорил [Осинина 2020]. В качестве самоидентификации населения СССР использовался единый для всей страны конструкт – советский гражданин. Напротив, в позднесоветский период на фоне роста национально-демократического фактора традиционные структуры, равно как и вопрос этнической принадлежности, стали играть важную роль в политическом процессе Казахстана. Пришедший на волне так называемого национального возрождения при активном содействии представителей Старшего жуза Н.А. Назарбаев традиционные аспекты поддерживал вплоть до конца 1990-х гг. В нулевых годах тема жузов уходит на второй план, что связано как с общемировым процессом вестернизации, главным объектом которой является современное поколение, так и с политической составляющей – педалировать тему доминирования Старшего жуза в политическом истеблишменте стало невыгодно. В то же время современный внутриэлитный расклад в Казахстане все же демонстрирует влияние трайбалистского фактора и традиционных институтов власти на политическую систему страны, а также на механизмы рекрутирования элиты. Более 50% управленческой элиты республики приходится на Старший жуз, причем четверть из них до января 2022 г. состояла из представителей рода шапрашты2.
В-третьих, становление новых независимых государств требовало общественной солидарности, которая позволила бы сплотить воедино триаду «государственные институты – нация – территория». С этой целью политический истеблишмент Республики Казахстан обратился к «символическим ресурсам этнического прошлого региона» [Шукуралиева 2014]. Начавшаяся реинтерпретация истории возродила к жизни мифологические концепты о происхождении Казахстана и его титульного этноса. Историки и писатели начали апеллировать к так называемому золотому веку развития региона, причем историография каждой из республик возрождала отдельные эпизоды в соответствии со своей «национальной легитимирующей формулой». Интересно, что ключевое значение придавалось не отдельным историческим фактам или персонажам, а обоснованию существования общих корней [Smith 2009: 61-64].
Таким образом, политическая мифология, взятая на вооружение, была направлена на обоснование коренного характера предков титульного этноса и их права на занимаемую территорию. Среди примеров можно привести исследователя Торегали Казиева и его работы «Триумф Казахии», «Во главе Великой Сарматии» и «Тюркская праистория человечества». Согласно его подходу, только после распада СССР Казахстан наконец-то смог исследовать историю своей земли и народа, предки которого встречаются в древнегреческих источниках (из книги «Триумф Казахии»)3. В своих работах Т. Казиев проводит парал- лели между древнегреческими богами и казахскими героями, например, между Посейдоном и Тогымом, резюмируя, что «древние предки казахов известны в мире как божества и титаны».
Согласно еще одной концепции, предками современных казахов были автохтоны (саки и массагеты) из железного века, за родство с которыми также борются таджики, туркмены, киргизы и узбеки [Шукуралиева 2014]. Для популяризации данной концепции в качестве национального символа был выбран сакский воин Иссыкский золотой человек, чье изображение было помещено на штандарте президента в период 1995–2012 гг., на почтовых марках и т.д. [Шукуралиева 2014].
Соответственно, суть деятельности историков и писателей Казахстана в постсоветский период – это переосмысление истории Степи, обоснование духовных достижений нации и длительного периода государственности, что, с одной стороны, связано с необходимостью легитимации национального государства, а с другой – с формированием чувства гордости, которую должен испытывать каждый гражданин Казахстана. Учитывая, что в советский период казахи являлись гражданами одного из двух наиболее могущественных государств мира, задача историков, культурологов, писателей заключалась в поиске «равнозначного» аналога найденного в прошлом этноса. Более того, подобная политика в 2017 г. стала частью программы «Рухани жаHFыру», разработанной на основе статьи первого президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»1.
Анализируя политический смысл мифологизации строительства национального государства, можно отметить, что изначально это являлось частью общего процесса поиска национальной идентичности и обоснования истоков собственной государственности. Это было стратегически важно на фоне достаточно высокого уровня поддержки Советского Союза, которую продемонстрировал Всесоюзный референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 г. (в поддержку Советского Союза высказались более 76% населения при явке в 79,5%)2. Причем в Казахской СССР уровень поддержки значительно превышал средний показатель по Союзу – 94,1%. Поэтому на смену советской гражданственности власти нового суверенного государства продвигали идею принадлежности к титульной этнической группе – казахам. Однако впоследствии поиск сакральных основ казахской культуры приобрел новый политический смысл, став частью формирования особого статуса главы государства, что можно объяснить с позиции мифологической концепции власти Л. Дюги. Согласно данной концепции, фигура правителя обожествляется, т.е. он объявляется потомком божества или даже божеством. Подобные формулировки придают легитимность правителю. Разумеется, в современном Казахстане подобных формулировок в чистом виде нет. Само государство находится на значительно более высоком уровне развития, претендуя на статус региональной державы и второй экономики на постсоветском пространстве. Однако патернализм как социально-политическая практика свойственен политической системе Казахстана, что подчеркивается наличием статуса Отца / Лидера нации (Елбасы), конституционно закрепленного за первым президентом РК Н.А. Назарбаевым в 2010 г.3 Все это воспроизводит вза имоотноше ния главы государства и населения на уровне «отца» и «детей», наде-

ляя при этом первого особыми качествами. Так, при жизни Н.А. Назарбаева столица Казахстана Астана была переименована в его честь, став Нур-Султаном. То же касается и центральных улиц во всех крупных городах страны, а также школ, высших учебных заведений, спортивных комплексов и библиотек. На территории Казахстана в честь первого президента установили несколько памятников – в Алматы и Талдыкоргане1. И наконец, в 2012 г. в честь Н.А. Назарбаева учредили персональный праздник – День первого президента – Елбасы, празднуемый ежегодно 1 декабря. А День столицы республики с 2006 г. отмечается в день рождения первого президента РК – 6 июля. Несмотря на события января 2022 г., публичный статус первого президента, сформированный за почти три десятилетия пребывания у власти, поддерживается, т.к. существует необходимость выстраивания преемственности государственного курса и политических институтов. Президент РК К.-Ж. Токаев сохраняет и тренд на обоснование длительной государственности и национальной идентичности: «наши предки жили здесь во времена Казахского ханства, в эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов, саков»2.
Таким образом, все вышеперечисленное позволяет охарактеризовать природу политической власти в РК как «право одного субъекта проводить коллективную волю в отношении других субъектов»3, причем правомерность этого процесса обосновывается через апелляцию к национальному самосознанию, возрождая этнические формулировки, через реставрацию традиционных структур казахского общества, а также посредством политической мифологизации, доказывающей исключительные качества главы государства.
Разумеется, природа политической власти сказывается на институциональном контуре политической системы РК, влияя на сущность формальных институтов и содействуя появлению неформальных. Так, влияние традиционных структур на политику Казахстана вкупе с укреплением «титульного» компонента, доминированием национального и кланового факторов в системе рекрутирования элиты, а также наделением главы государства как формальными (определены Конституцией РК), так и неформальными полномочиями привели к появлению неопатримониальных практик и неформальных институтов власти, выраженных в президенционализме, клиентелизме, клановом характере власти [Журавлев 2021], рентоориентированном поведении [Осинина 2021].
В итоге, современная политическая система Казахстана состоит из совокупности формальных и неформальных институтов власти, которые в свою очередь влияют на политический процесс и политическую систему страны в целом.
Список литературы О природе политических институтов в Республике Казахстан
- Журавлев Д.А. 2021. Клановая структура элит демократического общества. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 11. № 4. С. 43-49.
- Красильников О.Ю. 2004. Институциональная карта и координаты экономического развития России. - Экономический рост и вектор развития современной России (под ред. К.А. Хубиева). М.: Изд-во МГУ; ТЕИС. С. 509-518.
- Норт Д. 1997. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики (науч.ред. Б.З. Мильнер; пер. А.Н. Нестеренко). М.: Фонд экономической книги «Начала». 180 с.
- Осинина Д.Д. 2020. "Смена караула". Кадровый резерв центральноазиатских элитных сообществ. М.: Инфра-М. 224 с.
- Осинина Д.Д. 2021. Элитные группы Республики Казахстан и особенности принятия стратегических политических и экономических решений в транзитный период. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 11. № 5. С. 101-105.
- Хрусталев М. А. 2005. Этнополитическая ситуация в Центральной Азии. - Южный фланг СНГ. Центральная Азия - Каспий - Кавказ: энергетика и политика. М.: Навона. С. 61-62.
- Шукуралиева Н. 2014. Национальные мифы и политическая практика в странах Центральной Азии. - Studia Politologiczne. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. Vol. 33. S. 298-318.
- Levi M. 1990. ‘A Logic of Institutional Change’. - The Limits of Rationality (ed. by K.S. Cook, M. Levi). Chicago: Chicago University Press. P. 402-418.
- Smith A. 2009. Kulturowe podstawy narodow. Krakow. 265 p.