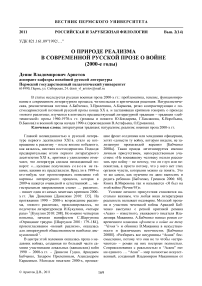О природе реализма в современной русской прозе о войне (2000-е годы)
Автор: Аристов Денис Владимирович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется русская военная проза 2000-х гг.: проблематика, генезис, функционирование в современном литературном процессе, читательская и критическая рецепция. Натуралистическая, реалистическая поэтика А.Бабченко, З.Прилепина, А.Карасева, резко контрастирующая с постмодернистской поэтикой русской прозы конца ХХ в. и заставившая критиков говорить о приходе «нового реализма», изучается в контексте предшествующей литературной традиции - традиции «лейтенантской» прозы 1960-1970-х гг. (романы и повести Ю.Бондарева, Г.Бакланова, К.Воробьева, В.Быкова) и военной прозы начала 1990-х (произведения В.Астафьева, О.Ермакова).
Литературная традиция, натурализм, реализм, военная проза 2000-х гг
Короткий адрес: https://sciup.org/14728991
IDR: 14728991 | УДК: 821.161.09"1992/…"
Текст научной статьи О природе реализма в современной русской прозе о войне (2000-е годы)
Главной неожиданностью в русской литературе первого десятилетия XXI в. стало ее возвращение к реализму – после вполне победного, как казалось, шествия постмодернизма. Подводя предварительные итоги первого литературного десятилетия XXI в., критики с удивлением отмечают, что литература сделала неожиданный поворот: «…нулевые получились с ов с ем не такими, какими их представляли. Вряд ли в 1999-м кто-нибудь мог прогнозировать появление той картины литературного процесса, которая в 2009-м кажется очевидной и естественной … магистральным направлением станет … реализм», – пишет один из самых заметных критиков 2000х гг. Лев Данилкин [Данилкин 2010: 135]. На протяжении 1990 – 2000-х возрождение реализма, «нового реализма», прокламировалось, по подсчетам литературоведа И.Кукулина, «четыре раза» 1 [Кукулин 2010: 208]. Но именно четвертая попытка, начатая манифестом С.Шаргунова «Отрицание траура» [Шаргунов 2001: 179–184], провозгласившим «новый реализм», оказалась для литературной общественности наиболее дискуссионной 2.
В центре этой полемики оказалась проза о недавних войнах, созданная по большей части самими участниками локальных (кавказских) войн 1990 – 2000-х гг. – Денисом Гуцко, Аркадием Бабченко, Захаром Прилепиным, Александром Карасевым. Молодые писатели 2000-х, прошед- натурализм; реализм; военная проза 2000-х гг.
шие фронт солдатами или младшими офицерами, хотят «донести ту войну, которую видели, не зализанную пропагандой версию» [Бабченко 2008а]. Такая правда легитимируется именно личным присутствием, непосредственным участием: «Не воевавшему человеку нельзя рассказать про войну – не потому, что он глуп или непонятлив, а просто потому, что у него нет этих органов чувств, которыми можно ее понять. Это то же самое, как мужчине не дано выносить и родить ребенка» [Бабченко, Грешнов 2006: 60]. Книга В.Миронова так и называется «Я был на этой войне (Чечня 95)».
Условие личного присутствия становится настолько важным, что любая иная литературная реальность вызывает недоверие. Молодой прозаик и участник чеченской войны Аркадий Бабченко выступил с резкой критикой романа «Асан» – известного, уважаемого писателя Владимира Маканина. А.Бабченко назвал роман современного классика « фэнтези о войне на тему “Чечня” » и обвинил В.Маканина в искусственности и фактических неточностях [Бабченко 2008б]. «Разбирать все несуразицы “Асана” бессмысленно, потому что они не то чтобы «встречаются» – роман на них построен полностью. Соприкосновения с реальностью в “Асане” нет ни единого. … “Асан” – мир полностью искусственный, созданный Владимиром Маканиным от
начала и до конца под свои потребности» [там же].
Маканин вполне спокойно ответил оппоненту в том духе, что если бы ему для художественного целого романа понадобилось, чтобы Сунжа текла в другую сторону, – она бы потекла [Маканин 2009]. Для Маканина важен поиск типологических символов времени, героев – эмблем определенных периодов, какими были его прежние персонажи (гражданин убегающий, антилидер, предтеча, андеграундный писатель). А создание эмблемы предполагает некоторую отвлеченность и обобщенность в пользу убедительности образа в целом. Для Бабченко же любое обобщение оказывается ложью.
Рассмотренный спор Аркадия Бабченко с Владимиром Маканиным выходит далеко за пределы дискуссии о правде и вымысле, в некотором смысле – это спор литературных поколений, отцов и детей. Но, сокрушая «отцов», как нередко случается, сыновья поверх их голов ищут предшественников среди литературных «дедов», выступивших когда-то со своей «окопной» правдой. Сходство взглядов молодых прозаиков и авторов с «лейтенантской», окопной прозы уже было отмечено литературной критикой: «Из литературных произведений о Великой Отечественной повесть В.Некрасова “В окопах Сталинграда” оказывается наиболее близкой сознанию современных “военных” прозаиков» [Пустовая 2005: 152]. Действительно, «ориентация только на собственный опыт» [Кукулин 2002: 314] сближает современную «окопную правду»3 с лейтенантской (Ю.Бондарев, Г.Бакланов, В.Быков, К.Воробьев). Бабченковско-маканинская полемика о правде заставляет вспомнить обвинения фронтовика В.Богомолова в адрес невоевавшего Г.Владимова. (Тогда речь шла о фактических неточностях романа «Генерал и его армия» 4.)
Главный принцип новой окопной правды 2000-х – жесткая, почти репортажная точность в изображении войны, натуралистическая честность в описании ее будней, безоглядная верность факту.
Это качество новой прозы и стало «яблоком раздора» не только для писателей, но и для литературных критиков. Так, С.Беляков сравнивает прозу А.Бабченко с «физиологическими очерками» [Беляков 2007: 235]. Критик предлагает вывести бабченковское «журналистско-документальное описание войны» за пределы художественной литературы, т.к. оно совершенно лишено вымысла [Беляков 2003: 243]. Литературный критик М.Ремизова, напротив, полагает, что А. Бабченко и другим молодым авторам с их
«личными историями индивидуума» удается сказать что-то новое о войне [Ремизова 2002: 189]. Сторонники так называемого «нового реализма» (В.Пустовая, А.Рудалев) оправдывают «всепоглощающую эмпирию» [Рудалев 2006: 201] манеры письма Бабченко «подавленностью реальностью войны» [Пустовая 2005: 161], «невозможностью рефлексии и отстранения» [Рудалев 2006: 201]. Но оправдание «адептов» такого спорного явления в литературном процессе, как «новый реализм», не снимает критику, а лишь добавляет вопросы и рождает новые дискуссии5.
Сами авторы отнюдь не стремятся называться «новыми реалистами». Показательно, что некоторые военные прозаики, произведения которых критики идентифицировали с «новым реализмом», публично от него отмежевались. Например, Денис Гуцко говорит, что «ни как о направлении, ни тем более как об этапе развития отечественной литературы о “новореализме” рассуждать невозможно» [Гуцко 2007: 101]. Еще более категоричен Александр Карасев, автор «Чеченских рассказов», назвавший программную для «нового реализма» статью Валерии Пустовой «Пораженцы и преображенцы» «блестящей, с тонким вкусом вычурной бессмыслицей» [Карасев 2006].
В сложившейся полемике «новый реализм» стал своеобразным притчевым «слоном» для литературной общественности, которая, подобно слепым мудрецам, ощупывающим его части, дабы понять его сущность, описывает его в меру своего понимания: как новый этап развития реалистического метода или как знак деградации художественной прозы в журналистику и бытописательство, «лишенное литературного вещества» [Иванова 2010].
Чтобы понять природу реализма в сегодняшней российской прозе, необходимо перевести разговор из оценочной в исследовательскую плоскость. Для этого снова обратимся к литературной традиции военной прозы. И здесь мы находим не только сходство между «отцами» и «внуками», но и заметные различия.
Главным творческим импульсом появления «лейтенантской» прозы был протест против идеологических стереотипов «магистрального течения, связанного с социалистическим реализмом» [Лейдерман 2005: 230]. В соцреализме, как отмечает в своей фундаментальной работе «Человек и война» А.Г.Бочаров, «на первый план выходили две функции литературы – прославляющая и воспитательная. Война рассматривалась как продолжение революционной борьбы – поэтому все предатели в книгах первых послевоенных лет, как правило, были “из бывших” – ку- лаки, нэпманы… (в романе «Незабываемые дни» М.Лынькова, например, кулак Матвей Сипак, нэпман Клопиков» [Бочаров 1978: 53]). Целью же авторов «лейтенантской» прозы, было, пользуясь словами Л.Толстого, «показать войну в настоящем её выражении – крови, страданиях, в смерти» [Толстой 2008: 25]. Ю.Бондарев писал: «Окопная правда для меня, в первую очередь, – это очень высокая достоверность» [Бондарев 1965: 116]. Вместо социально-идеологической адаптации и пропаганды (именно в этом современный литературовед И.Кукулин видит «цель советской литературы как системы») «окопная правда» раскрывала проблему рефлексии и человеческой идентичности вне коллективнопартийного и идеологического начал [Кукулин 2005: 324].
Авторы «лейтенантской» прозы, отвергая официальные штампы, адресовались к читателю, который мог проверить их правду – прежде всего собственным опытом. Ведь в Великой Отечественной воевала вся страна. По словам писателя-фронтовика В.Быкова, «литература Отечественной войны по сути была литературой большой отечественной беды, в которой – и литературе, и беде – участвовали все» [Быков 2000: 5]. В сегодняшних же локальных войнах участвуют немногие. Местоимение «я» в упомянутой нами книге Миронова «Я был на этой войне» не только манифестирует факт личного участия, но и подчеркивает противостояние автора рядовому гражданскому обывателю, воспринимающему происходящее через призму массовой литературы и образы массмедиа4. «Есть две России – одна воевавшая и другая, они живут в параллельных мирах» [Бабченко 2005а], – вторит Миронову А.Бабченко в интервью «Новой газете». Такой ситуации не могло возникнуть в отношении прозы о Великой Отечественной. Авторы сегодняшних произведений о войне чувствуют себя некими маргиналами, обреченными оставаться наедине со своим страшным опытом. Современные военные прозаики противостоят не только официальной идеологии или доминирующей художественной системе, но и читателям. Может быть, отчасти и поэтому современная военная проза зарождалась, развивалась и продолжает функционировать не столько на печатной странице, сколько в виртуальном пространстве Интернета (крупнейший электронный ресурс посвященный творчеству ветеранов последних войн – ArtOfWar6).
Это расхождение новых прозаиков с авторами «лейтенантской» прозы, связанное с изменением характера войны, – не единственное. В произведениях современных писателей решительно от- меняется собственно героическое начало и меняется характер конфликта.
Н.Л.Лейдерман и М.Н.Липовецкий, говоря о конфликте в произведениях «лейтенантской прозы», отмечают, что он носит характер «внутренний, нравственный: между теми, кто находится по одну сторону фронта (например, два берега Днестра в «Пяди земли» Бакланова)» [Лейдер-ман, Липовецкий 2003: 170]. Специфика конфликта коррелирует со смысловым стержнем произведения – историей становления личности на войне. Принципиальным для личности становится вопрос: «ощущает себя человек жертвой войны или же ее участником, способным в тех или иных пределах воздействовать на ее ход» [Бочаров 1978: 143]. В этом, по словам литературоведа А.Г.Бочарова, отражалась толстовская «диалектическая полифония идейного содержания – неразрывность на войне героического и трагического» [там же: 62]. При всей трагичности судьбы таких персонажей, как Травкин у Э. Казакевича, Иван у В.Богомолова, они воспринимаются как герои, потому что ни на миг не утрачивали веру в нужность делаемого ими. Лейтенант Мотовилов из «Пяди земли» Г.Бакланова верит: «Мы воюем за то, чтобы уничтожить всякую подлость, чтобы после войны жизнь на земле была человечной, правдивой, честной» [Бакланов 1989: 311] .
В современной военной прозе война предстает бессмысленным истреблением себе подобных, смертью человеческой души и рождением, по словам критика Валерии Пустовой, «солдата безыдейного, бесстрастного, лишенного почитания долга войны» [Пустовая 2005: 154]. Вот как пишет А.Бабченко в повести «Алхан-Юрт»: «А поле это ему не забыть никогда. Умер он здесь. Человек в нем умер, скончался вместе с надеждой в Назрани. И родился солдат. Хороший солдат – пустой и бездумный, с холодом внутри и ненавистью на весь мир. Без прошлого и будущего» [Бабченко 2002: 24].
Представляется, что начало тенденции к демифологизации образа героя и дегероизации войны следует искать в произведениях конца 80х – начала 90-х гг. ХХ в. Появление так называемой дембельской прозы [Володихин 2007: 215] – «Сто дней до приказа» Ю.Полякова (1987), «Стройбат» С.Календина (1989), «Зёма» (1989) А.Терехова – открыло тему дедовщины как бессмысленного круговорота насилия, где каждый солдат – жертва. Тематику бессмысленной жертвенности продолжают военные произведения начала 90-х, где на первый план выходит метафизика жестокости, а конфликт все чаще переходит в область символическую и религиозную.
Роман В.Астафьева «Прокляты и убиты» (1992) задает новый архетипический образ, мирообъясняющий символ, в котором писатели 90х гг. выражают смысл войны. Это Апокалипсис. Стоит отметить, что образ войны как Апокалипсиса, вселенского зла, был создан В.Астафьевым ранее в повести «Пастух и пастушка», где «характерным приемом для батальной поэтики является перевод непосредственного изображения в мистический план» [Лейдерман 2001: 238]. Апокалиптические обстоятельства страшны в первую очередь не столько смертью физической, сколько смертью человеческой души – отказом от любви, доброты, сострадания. Борис Костяев «гибнет не столько от осколочного ранения, а от усталости души» [там же: 238]. Однако полное отражение тема Апокалисиса нашла в астафьевском романе «Прокляты и убиты».
Само название, по сравнению с антиномичными парами «Война и мир» Л.Толстого, «Живые и мертвые» К.Симонова, «Жизнь и судьба» В.Гроссмана, звучит безысходно устрашающе. Уже первая книга с заглавием «Чертова яма» определяет новые акценты в понимании травматического опыта войны. Центральным топосом является «чертова яма» – «учебка» (совершенно новая тема для прозы о Великой Отечественной»), казарменная преисподняя, «антихристово пристанище» [Астафьев 1992: 75]. Здесь под «руководством» «мучающегося за всех» [там же: 76] товарища Сталина, политотдельцев и целой армии дармоедов болеют, морально опускаются и «обезличиваются» превращаются в скот «ребята – вчерашние школьники» [там же: 74]. Казарма соотносится с гигантской могилой: «без конца, без края, вроде бы и без стен, из сырого леса строенная, она так и не просохла, прела, гнила, была всегда склизкой, плесневелой от многолюдного дыхания» [там же: 71] – той могилой, куда падают расстрелянные братья Снегиревы. Роман Астафьева, показывающий антигероиче-скую невыносимость и бессмысленность каждодневного бытия солдата, взламывает матрицу военного романа.
Сходными художественными категориями наполнен роман О.Ермакова «Знак зверя»7, посвященный афганской войне. События, развивающиеся в романе, происходят в двух измерениях – реальном и ирреальном, и граница между ними размыта. Война реальна для ее участников, и одновременно она ненастоящая. На страницах советских газет она предательски названа «учениями», поэтому «все условное: противник, потери. Мины, душманы, цинкачи… Трупы ребят, за которых тебе не хотят давать ордена» [Ермаков 1992: 106]. Мир, в который попадает глав- ный герой Глеб-Черепаха, – потусторонний; это ад, могила, над которой возвышается обелиск Мраморной горы. Родина вспоминается героям раем, где «чудеса… Цепные коты там. Сидят на золотых цепях и ходят вокруг да около, сказки говорят» [там же: 104]. Как и у Астафьева, в «Знаке зверя» важное место занимает опыт массовой болезни. В прямом смысле это желтуха, в глобальном – насилие и жестокость. Герои Ермакова чувствуют себя жертвами войны, этой болезни.
Изображение войны у Ермакова отчетливо связано с натуралистической поэтикой. Война – это мухи, запах гниющей плоти, кровь, грязь, водка, анаша, грабеж кишлаков и афганских лавок, насилие, убийство пленных, головы, отрезанные «духами» у советских солдат. Религиозная апокалипсическая символика проявляется в сюжетике романа прямой отсылкой к житийным мотивам. Центральные персонажи романа – солдаты Борис и Глеб. Если житийные Борис и Глеб вместе стали жертвой властолюбия Святополка Окаянного, то в ХХ в. Глеб убивает своего духовного брата Бориса. Как точно отметил критик Андрей Немзер, «Глеб превратился в Святополка Окаянного, обреченного на Каиновы страдания» [Немзер 1998: 159]. Человек убивает человека, брат убивает брата – такова природа любой войны. Роман заканчивается фразой: «И жертва свершается» [Ермаков 1992: 171]. По Ермакову, бессмысленная Каинова жертва, которой отмечено начало человеческого существования, обречена на вечное повторение по кругу. Гуманизация истории невозможна, потому что на всех лежит знак Зверя.
Это астафьевско-ермаковское восприятие войны наиболее близко современным военным прозаикам. Сходство прозы А.Бабченко (именно особенности его творчества нам кажутся наиболее показательными для целого массива текстов) и поздней прозы Астафьева отмечает критик А.Урицкий: «Аркадию Бабченко близка проза позднего Виктора Астафьева с ее жестокой окопной правдой, неприкрашенным натурализмом, солдатской прямотой и солдатским же взглядом на окружающий мир» [Урицкий 2002: 220]. Автор пока что единственной диссертации, посвященной прозе о чеченской войне, Н.С.Выговская полагает, что «в произведениях Бабченко главный сюжетообразующий мотив – страх смерти» [Выговская 2009: 65]. Смерти духовной, нравственной, психологической, гибели личностного начала. «Война страшна тем, что на ней отрывает душу» [Бабченко 2009] – этим мотивом Бабченко близок Астафьеву (его Борису
Костяеву, солдатам «Чертовой ямы» из «Проклятых и убитых»).
В новых войнах нет героев, основное внимание авторов сосредоточено на переживании травматического опыта. Господствуют ощущения холода, голода, но главная эмоция – страх. По словам М.Ремизовой, Бабченко обнажает «физиологическую основу бытия» [Ремизова 2002: 185]. Если для «лейтенантской» прозы натуралистическая образность – «важнейший способ добывания правды о подлинной цене героизма» [Лейдерман, Липовецкий 2003: 167], то в современной антигероической прозе натурализм – единственная оставшаяся правда войны. Не становление личности интересует современных прозаиков, а превращение человека в существо, живущее по законам иной реальности, – войны. Бабченко пытается ухватить момент этого превращения, «отрыва души» – рождения, разлома, запечатлеть его. Мимикрия сопровождается погружением в грязь, нечистоту во всех ее проявлениях – в истинную сущность войны. «Слякоть стояла уже неделю. Холод, сырость, промозглая туманная влажность и постоянная грязь действовали угнетающе, и они постепенно впали в апатию, опустились, перестали следить за собой. Грязь была везде» [Бабченко 2002: 10]. Положение человека на войне вступает в конфликт с нормальной человеческой логикой. Илья Куку-лин замечает, что проза Бабченко «подчеркнуто ориентирована на “здесь и теперь”, она противостоит любому иному, вневоенному опыту, который с точки зрения человека, лежащего на болоте под Алхан-Юртом, настолько трудно вообразим, что почти нереален» [Кукулин 2002: 315]. Поэтому мир съеживается, сжимается.
В повести «Алхан-Юрт» основным топосом, «чертовой ямой» становится болото. Это символ стагнации, распада и гибели. Война – то, что навсегда засасывает человека и уже не отпускает. Все остальное (Москва, прошлая жизнь) – иная реальность, находящаяся за пределами понимания, неподвластная восприятию. «Понимаешь, все это так далеко, так нереально. Дом, пиво, женщины, мир.<...> Реальна только война и это болото» [Бабченко 2002: 45]. Чтобы адаптироваться к этой ирреальности, надо умереть. В рассказе «Взлетка» топос – взлетное поле, которое является перевалочным пунктом, сортировочной для живых – «пушечного мяса» и мертвых «завернутых в блестящие фантики» [Бабченко 2005б: 9]. Тонкую грань между этими состояниями в условиях войны автор подчеркивает выразительной деталью: трупы и молодых солдат везут по очереди в одном и том же грузовике. «Парни, это тот же “Урал”, в котором они трупы возят» [там же: 18]. После вхождения в ирреальность войны человек уже думает, что война – единственная реальность, основа всего. Один из героев Бабченко, Артем, говорит: «Ты навсегда во мне. Мы с тобой – одно целое. Это не я и ты, это – мы. Я вижу мир твоими глазами, меряю людей твоими мерками» [Бабченко 2002: 39]. Если герои «лейтенантской» прозы сражались за счастливое будущее, то новый солдат ищет чувство экзистенциальной свободы: «Я здесь свободен. Хочу – умру, хочу – выживу, хочу – вернусь, хочу – пропаду без вести <…> Главное – выжить. И ни о чем не думать. А что там будет впереди, один Бог знает» [там же: 43]. Инстинкт самосохранения, животный ужас перед смертью заставляет стрелять без разбора в невидимых врагов. В результате такого «героизма» гибнут случайные люди: девочка в повести «Алхан-Юрт». Однако бесстрастность позволяет солдату воспринимать войну как работу, которую он обязан выполнить: «Он не испытывал никакой жалости к чехам или угрызений совести. Мы враги. Их надо убивать, вот и все. Всеми доступными способами. И чем быстрее, чем технически проще это сделать, тем лучше» [там же: 39]. Артем убивает ребенка – в этом весь ужас и противоестественность сегодняшних войн. Война теперь – это не борьба со смертью за торжество жизни, но абсурдная борьба с жизнью, в результате которой смерть торжествует.
У каждой войны своя литература. Современные войны, обладающие, по сравнению с Великой Отечественной, другой сутью, иной идеологией и пафосом, рождают новую литературную антропологию – «неконвенциональные, зачастую негероические и даже антиисторические образы человека на войне» [Кукулин 2005: 324]. Для передачи травматического опыта сегодняшние прозаики используют особый способ письма. Думается, его точно определила И.Каспэ, назвав «экстремальным» [Каспэ 2002: 227]. Автор осколочным изображением, сфокусированным только на скрещении «горячих точек», обрастающим физиологическими подробностями, стремится обеспечить экспрессивное вживание читателя в ситуацию войны. Представляется, что опыт войны становится одним из решений проблемы существования. Война начинает использоваться и осознаваться как единственная реальность, дающая писателю и оптику, и материал и в целом оправдывающая существование литературного текста.
Война для героя современной прозы и для близкого герою автора – это не осознание ценности всего сущего, а драма гибели этого осознания, смерть человеческой души и рождение сол- дата, действующего с беспощадным механистическим автоматизмом. Его поведение на биологическом уровне подчинено действию рефлексов, а на сознательном – приказам. Метафизиче-ски-религиозное астафьевское звучание военной прозы сменилось камерным, прозаическим ощущением… тоже апокалипсиса – но индивидуального, свершающегося для одного человека и выходящего за пределы поля битвы.
ON NATURE OF REALISM
Post-graduate Student of Modern Russian Literature Department
Список литературы О природе реализма в современной русской прозе о войне (2000-е годы)
- Астафьев В.П. Прокляты и убиты//Новый мир. 1992. №10. С.60-106.
- Бабченко А.А. Алхан-Юрт//Новый мир. 2002. №2. С.12-50.
- Бабченко А.А. Инопланетянин из параллельной России/Интервью Н.Савоськиной//Новая газета. 2005а. №30. 25 апреля. URL: http://www.novayagazeta.ru/data/2005/30/40.html> (дата обращения: 10.01.2011).
- Бабченко А.А. Взлетка//Новый мир. 2005б. №6. С.9-18.
- Бабченко А.А. «Оружие не возьму больше никогда». Интервью Би-би-си. 2008а.URL:http://news.bbc.co.uk/hi/russian/entertainment/newsid_7326000/7326574.stm (дата обращения: 10.01.2011)
- Бабченко А.А. Фэнтези о войне на тему «Чечня»//Новая газета. 2008б. 8 дек. № 91. URL: http://www.novayagazeta.ru/data/2008/91/27.html> (дата обращения: 10.01.2011)
- Бабченко А.А. Стенограмма радиопередачи об «Искусстве войны». 2009. URL: http://www.navoine.ru/articles/1098> (дата обращения: 10.01.2011)
- Бабченко А.А., Грешнов А. Операция «Жизнь» продолжается//Искусство войны. 2006. №1. С.60-64.
- Бакланов Г.Я. Пядь земли: роман, повести, рассказы. М.: Сов. писатель, 1989. 765 с.
- Беляков С.С. Дракон в лабиринте: к тупику нового реализма//Урал. 2003. №10. С.24-247.
- Беляков С.С. Одна правда, стало быть -несправедливо//Урал. 2007. №5. С.233-236.
- Бондарев Ю.В. Стенограмма совместного Пленума комиссии по военно-художественной литературе Правления СП СССР и правления Московского отделения СП РСФСР, посвященного Дню Победы. 28 -29 апреля 1965. Т.II. С.116-119.
- Бочаров А.Г. Человек и война. М.: Сов. писатель, 1978. 480 с.
- Быков В.В. Березин В.С. и др. Литература и война//Знамя. 2000. №5. С.3-13.
- Володихин Д.М. Олег Дивов. Оружие возмездия//Знамя. 2007. №9. С.215-217.
- Выговская Н.С. Молодая военная проза второй половины 1990 -начала 2000-х гг.: имена и тенденции: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 М., 2009. 194 с.
- Гуцко Д.Н. Высоконравственная затея//Вопр. лит. 2007. №4. С.101-105.
- Данилкин Л.А. Клудж//Новый мир. 2010. №1. С.135-154.
- Ермаков О.Н. Знак зверя//Знамя. 1992. №7. С.99-171.
- Иванова Н.Б. Пусть сильнее грянет «Букер». 2010. URL: http://www.openspace.ru/literature/projects/107/details/18973/(дата обращения: 10.01.2011)
- Карасев А.В. А на войне как на войне//Лит. Россия. 2006. 15 сент. URL: http://www.litrossia.ru/2006/37/00729.html> (дата обращения: 10.01.2011)
- Каспэ И.М., Ваншенкина Е.В., Кукулин И.В. Война -место присутствия//НЛО. 2002. №55. С.224-232.
- Кукулин И.В. Живая боль незнаменитых войн//Новое лит. обозрение. 2002. № 55. С.313-316.
- Кукулин И.В. «Какой счет?» как главный вопрос русской литературы//Знамя. 2010. №4. С.204-210.
- Кукулин И.В. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной/Второй мировой войны в русской литературе1940-1970-х годов)//Неприкосновенный запас. 2005. №2-3 (40-41). С.324-336.
- Лейдерман Н.Л. Крик сердца (Творческий облик Виктора Астафьева)//Урал. 2001. № 10. С. 225-245.
- Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература 1950 -1990-е гг. М.: Академия, 2003. Т.I. 416 с.
- Лейдерман Н.Л. «Магистральный сюжет». ХХ век как литературный мегацикл//Урал. 2005. №3. С. 226-239.
- Маканин В.С. Интервью радио «Эхо Москвы». 2009. URL: http://www.echo.msk.ru/programs/kazino/569027-echo/> (дата обращения: 10.01.2011)
- Миронов В.Н. Я был на этой войне (Чечня-95). М.: Эксмо, 2008. 384с.
- Немзер А.С. У кольца нет конца//Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. М., 1998. 432 с.
- Пустовая В.Е. Человек с ружьем: смертник, бунтарь, писатель//Новый мир. 2005. №5. C.151-172.
- Ремизова М.С. Война внутри и снаружи//Октябрь. 2002. № 7. С.182-189.
- Рудалев А.Г. Обыкновенная война//Москва. 2006. № 4. С.200-210.
- Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы. М.: Дрофа Плюс, 2008. 192 с.
- Урицкий А. Н. Хроники локальной войны (рецензия на «Алхан-Юрт» и «Десять серий о войне» А. Бабченко)//Знамя. 2002. №9. С. 220-221.
- Шаргунов С.А. Отрицание траура//Новый мир. 2001. №12. С.179-184.