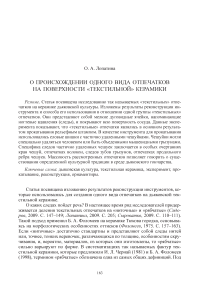О происхождении одного вида отпечатков на поверхности «текстильной» керамики
Автор: Лопатина О.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Исследования керамического производства
Статья в выпуске: 240, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию так называемых «текстильных» отпечатков на керамике дьяковской культуры. Изложены результаты реконструкции инструмента и способа его использования в отношении одной группы «текстильных»отпечатков. Они представляют собой мелкие дуговидные ячейки, напоминающие ногтевые вдавления (следы), и покрывают всю поверхность сосуда. Данные эксперимента показывают, что «текстильные» отпечатки являлись в основном результатом прокатывания рельефным штампом. В качестве инструмента для прокатывания использовались еловые шишки с частично удаленными чешуйками. Чешуйки могли специально удаляться человеком или быть объеденными мышевидными грызунами. Специфика следов частично удаленных чешуек заключается в особых очертаниях края чешуй, отпечатках волокон, следов зубов грызунов, отпечатках продольного ребра чешуек. Массовость рассмотренных отпечатков позволяет говорить о существовании определенной культурной традиции в среде дьяковского гончарства
Дьяковская культура, текстильная керамика, эксперимент, прокатывание, реконструкция, орнаментиры
Короткий адрес: https://sciup.org/14328203
IDR: 14328203
Текст научной статьи О происхождении одного вида отпечатков на поверхности «текстильной» керамики
Статья посвящена изложению результатов реконструкции инструментов, которые использовались для создания одного вида отпечатков на дьяковской текстильной керамике.
О каких следах пойдет речь? В настоящее время ряд исследователей придерживается деления текстильных отпечатков на «ниточные» и «рябчатые» (Сидоров, 2009. С. 147–149; Лопатина, 2009. С. 205; Сыроватко, 2009. С. 110–111). Такой подход применил Б. А. Фоломеев на керамике Тюкова городка, основываясь на морфологических особенностях оттисков (Фоломеев, 1975. С. 157–163). Если «ниточные» достаточно стандартны и представляют собой следы нитей или, точнее, тонких веревочек, различающихся по толщине, особенностям скручивания, и, вероятно, материалов, из которых они изготовлены, то «рябчатые» сильно варьируют по форме. В систематизациях так называемых фактур текстильной керамики, которые предложили И. Л. Чернай (1981) и Б. А. Фоломеев (1998), термином «рябчатые» обозначена одна из самых общих дефиниций. Под этим термином объединялись следы в виде отдельных элементов – ячеек различных форм и пропорций, покрывающих всю поверхность сосуда.
Объектом данного исследования была одна группа «рябчатых» отпечатков, которые представляют собой тонкие дуговидные углубления, напоминающие след ногтя (рис. 1, 1–3 : с. 352). Если такие отпечатки не перекрывают друг друга, они располагаются, как правило, не вплотную, а на небольшом удалении друг от друга; их размеры составляют, как правило, 0,4–0,7 мм в длину. Часто они располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга, демонстрируя определенную упорядоченность.
О происхождении таких отпечатков высказывались различные мнения. Так, А. А. Бобринский связывал происхождение похожих следов с конструированием внутри формы-емкости из рубцовой кожи желудка животного. Кроме того, похожие отпечатки, по его мнению, получались при выбивании поверхности сосудов колотушкой, обернутой кожей рубца, или непосредственно через этот материал в процессе формообразования ( Бобринский , 1978. С. 197–208. Рис. 80, 81, 86).
И. Л. Чернай полагал, что подобные следы оставлены тканями особого переплетения, которые прикладывались к поверхности сосуда ( Чернай , 1981; 1993). Технологическая задача этого приема не была обозначена автором.
Ранее мной уже были высказаны некоторые предположения о конкретных операциях, которые могли приводить к проявлению текстильных отпечатков на поверхности сосудов ( Лопатина , 2009). В частности, это могло происходить, скорее всего, в результате выбивания или прокатывания при обработке или декорировании поверхности сосудов. Позднее в результате специального исследования были выявлены признаки, позволяющие различать приемы прокатывания и выбивания инструментами с рельефной рабочей частью, ранее трудно поддававшиеся различению. В отношении одной группы отпечатков («ниточных») установлено, что они возникали вследствие прокатывания поверхности сосуда инструментом, представляющим собой круглый в сечении предмет, обмотанный нитями, точнее, тонкими шнурами. Установлено, что прием прокатывания подобным инструментом может быть диагностирован по следующим признакам. Во-первых, существенная длина отдельных отпечатков, во-вторых, дуговидность, а иногда извилистость очертаний рядов отпечатков, в-третьих, характерный рельеф края оттисков, который постепенно выполаживается ( Лопатина , 2015). Эти наблюдения, полученные в отношении «ниточных» отпечатков, могут являться основанием для диагностики приема прокатывания и для других по морфологии отпечатков, в отношении которых пока затруднительно реконструировать инструмент и материал, с помощью которого они наносились, в частности «рябчатых».
Действительно, общие особенности расположения на поверхности сосудов рассматриваемых «рябчатых» отпечатков позволяют предположить, что прием прокатывания имел место и при их нанесении. Основное наблюдение, которое позволяет это подтвердить, – расположение элементов относительно протяженными рядами, которые повторяют профилировку сосуда. При этом ряды элементов часто имеют дуговидные очертания. На сосудах с рябчатой поверхностью в силу того, что элементы отпечатков расположены не вплотную друг другу, а на некотором расстоянии, такие ряды не всегда хорошо заметны, но при тщательном изучении различить их возможно (рис. 1, 1).
Постановка задачи реконструкции инструмента, которым могли наноситься рябчатые отпечатки в виде тонких дуговидных ячеек, стала возможной только благодаря диагностике приема прокатывания. Реконструкция этого приема позволила существенно сузить направление поиска возможных инструментов для получения таких отпечатков. Искомый инструмент должен был представлять собой твердый, круглый в сечении предмет с относительно тонкими дуговидными выступами, расположенными упорядоченно.
Такой предмет был обнаружен случайно. Он представлял собой стержень еловой шишки с остатками чешуй на нем. Как оказалось, стержни шишек с частично или целиком утраченными чешуями – это обычный результат выедания семян различными животными1. Семена шишек ели являются источником питания для некоторых видов птиц и грызунов. В поисках семян обгрызают чешуи шишек, например, мышевидные грызуны и белки. Однако следы их погрызов принципиально различаются. Белка объедает шишки, срезая чешуи у самого основания и оставляя шероховатый стержень и несколько целых чешуй на вершине шишки ( Ошмарин , Пикунов , 1990. С. 229–231). Выступов в местах отростков чешуй практически не остается.
В отличие от белок мышевидные грызуны обгрызают шишки, оставляя небольшие выступы от чешуй ( Формозов , 2006. С. 68–71). Зверьки способны обтачивать чешуи довольно ровно и равномерно вокруг стержня, в результате чего остатки чешуй остаются выступающими примерно на одинаковую высоту. Однако бывает, что животные не поворачивают шишку, и она оказывается обгрызенной неравномерно, только с одной стороны. Оставленные мышевидными грызунами чешуи на стержне шишек могут сильно различаться по размерам и очертаниям оставшихся на стержне чешуй (подробно эти различия рассмотрены ниже). Кроме того, облик следов погрызов зависит, например, от степени зрелости шишек. Недозрелые шишки ломаются труднее из-за эластичности волокон, изломы остаются «лохматыми» в сравнении с сухой и зрелой шишкой. Волокна в чешуях ориентированы продольно и образуют своего рода ее скелет. При перекусывании в изломе чешуи часто наблюдаются неровные остатки волокон разной длины.
Кроме естественного преобразования еловых шишек животными, они могли специально обрабатываться человеком с целью изготовления орнаменти-ров. Предположительно, для этого чешуи могли обламываться, или обрезаться ножом, или обжигаться в костре. Интересно отметить, что в сравнительно недавнем прошлом в народных промыслах Вятской губернии при изготовлении декоративных фигурок-моховиков практиковалось использование шишек с обрезанными чешуями ( Шатров , 1938. С. 74, 75; Народное..., 2007. С.73).
Для изучения следов шишек с остатками чешуй была изготовлена серия отпечатков на глиняных пластинах путем однократного и двукратного прокатывания шишек, обгрызенных животными, а также шишек со специально удаленными чешуями. Последние представляли собой серию предметов, различающихся, во-первых, разными способами удаления чешуй (обрезка ножом, обламывание, опаливание в огне или сочетание разных способов), во-вторых, своими размерами. Наблюдения за особенностями инструментов и отпечатков велись под бинокулярным микроскопом МБС-10.
Самые общие морфологические отличия шишек, обработанных грызунами и человеком, позволили предварительно выделить 3 группы таких предметов. Описание типичных экземпляров этих групп и их следов дается ниже. Оно учитывает форму излома чешуй, длину излома, наличие волокон в изломе, особенности морфологического строения чешуй и некоторые другие характеристики. Рассмотрим одиночные следы, без наложения, оставленные в результате однократного прокатывания такими предметами.
Группа 1. Шишки представляют собой результат обработки мышевидными грызунами. Чешуи объедены близко к стержню (рис. 1, 4 ) и слабо выступают над поверхностью, за счет чего стержень остается относительно тонким (примерно 0,7–0,8 см).
Остатки чешуй в рамках одного и того же предмета очень близки по размеру и форме. Длина излома чешуй у разных экземпляров составляет 0,15–0,4 см. Очертания краев чешуй отражают специфику погрызов – один из углов, как правило, выступает больше другого, что дает отпечаток в виде угла или запятой, причем угловая часть отпечатка больше заглублена в глину (рис. 1, 3, 5, 6 ).
Часто на изломах чешуй заметны волокна, однако на некоторых экземплярах они могут совсем отсутствовать, что находит отражение и в отпечатках.
Характерной чертой этого вида шишек является наличие следов зубов грызунов. Их можно увидеть с внешней стороны в месте отростка чешуи от стержня (рис. 1, 5 ). Следы зубов представляют собой мельчайшие бороздки, ориентированные поперек относительно стержня шишки. Отпечатки этих бороздок видны в экспериментальных образцах.
Группа 2 представлена шишками, которые также были обработаны мышевидными грызунами. Однако чешуи объедены далеко от стержня (рис. 1, 7 ), за счет чего толщина стержня больше, чем в шишках предыдущей группы, и составляет примерно 1,4–1,5 см. Следы зубов мышевидных грызунов здесь отсутствуют.
Длина излома чешуй – 0,4–0,6 см. Очертания края вследствие специфики погрызов зубчатые, угловатые, с выступающими крайними углами (рис. 1, 8 ), в целом более неровные и разнообразные, чем в группе 1. Отпечатки также более разнообразны – дуговидные (с разной степенью выраженности дуги), скобчатые, а также в виде небольших штрихов разной длины – при этом они могут сочетаться в следах от одного и того же инструмента. Кроме того, отпечатки элементов могут отличаться не только формой, но и размером (рис. 1, 9 ).
На изломах чешуй шишек этого типа всегда хорошо заметны остатки волокон – неровные, разной длины, иногда даже образующие густую бахрому. Следы волокнистости видны в отпечатках на глине. На некоторых экземплярах остатки волокон в изломах представляют собой более ровные и короткие выступы, которые в отпечатках выглядят как мелкие ячейки с внутренней стороны дуги.
В шишках этой группы на внутренней стороне чешуй часто заметно продольное ребро, которое разделяет чешуйку на две половины, в каждой из которой находилось семя. Ребро не всегда сохраняется и может отслаиваться при высыхании или механическом воздействии на шишку. Однако если оно сохранялось, то оставляло очень характерный отпечаток в виде выступа на внутренней стороне дуги, из-за чего след становился похожим на схематичное изображение птицы (рис. 2, 6–8 : с. 353).
Группа 3 представлена шишками, подготовленными человеком. На экземпляре, представленном на рис. 2, 1 , чешуи удалялись путем обрезания их ножом, а затем опаливания на огне. Последнее было нацелено на то, чтобы удалить оказавшиеся не перерезанными волокна, которые образовывали на срезах чешуй довольно густую бахрому. Шишка на рис. 2, 4 представляет собой результат обжигания в костре. В этих экземплярах очертания краев чешуй гораздо более ровные и более стандартные по форме, чем в изделиях предыдущей группы. Отпечатки чешуй, как правило, оставляют ровную дугу (рис. 2, 2–5 ).
В некоторых экземплярах на срезе или изломе чешуй хорошо видна слоистая структура чешуйки – к ее внешней плотной стороне примыкает более рыхлая волокнистая часть (рис. 2, 2, 4 ). Иногда происходит отслаивание внешнего плотного слоя чешуи и внутреннего волокнистого. Вследствие этого отпечатки таких чешуй могут представлять собой две параллельные дуги.
Многие чешуи сохранили продольное ребро на внутренней стороне, которое, как это было отмечено для изделий предыдущей группы, оставляет характерный след (рис. 2, 6–8 ).
Волокна на срезе чешуй хорошо заметны, однако вследствие их целенаправленного удаления они приобрели вид коротких мелких выступов-зубцов размером 0,2–0,3 мм. В отпечатках они имеют вид мельчайших ячеек, расположенных с внутренней стороны дуги (рис. 2, 3, 8 ). И. Л. Чернай точно подметил наличие этих ячеек, что нашло отражение в его реконструкции переплетения нитей текстильного полотна (рис. 2, 10 ). На представленной им схеме хорошо видно, как дуговидные петли обмотаны витками чрезвычайно тонких нитей ( Чернай , 1993. С. 49. Рис. 1, 14, 15 ).
Следует отметить, что все 3 группы описанных предметов имеют очень мелкие детали: будь то следы зубов грызунов или выступы от волокон. Мелкий рельеф инструмента в процессе работы может забиваться глиной, вследствие чего такие следы не всегда прослеживаются. Однако если они сохранились, то могут являться надежным признаком данного орнаментира.
Выше были представлены наиболее характерные особенности разных групп еловых шишек с частично удаленными чешуями, которые могли использоваться в качестве орнаментиров. Эти группы имеют весьма специфические признаки, позволяющие различать разные виды инструментов, в частности, из шишек, объеденных мышевидными грызунами или подготовленных человеком. Дифференциация на керамике этих следов в дальнейшем может дать возможность для выделения разных гончарных традиций.
Тем не менее на данном этапе исследования хотелось бы резюмировать те наблюдения, которые позволяют в принципе отличать инструменты из шишек с частично удаленными чешуями от других рельефных условно цилиндриче- ских штампов, которыми также могли создаваться рельефные отпечатки на поверхности сосудов при прокатывании.
Во-первых, форма отпечатка края чешуй. Поскольку целые чешуи не плоские, а слегка изогнутые, то и остатки чешуй оставляют преимущественно дуговидный отпечаток с различной степенью выраженности дуги. Вместе с тем отпечатки могут быть прямыми, похожими на штрихи, скобчатыми, а также в виде угла или напоминающие запятую (рис. 1, 6, 9 , 2, 3, 5 ).
Во-вторых, характерные отпечатки дают волокна чешуй. В зависимости от того, насколько выражены остатки волокон, их отпечатки могут различаться. Если волокна короткие и ровно обломаны или специально удалены, то отпечатки представляют собой мелкие, примерно одинакового размера, ячейки с внутренней стороны дуги (рис. 2, 3, 8 ).
В-третьих, при наличии продольного внутреннего ребра чешуи его отпечаток образует характерный след с выступом на внутренней стороне дуги. Вследствие этого отпечаток излома отдельных чешуй становится похожим на схематичное изображение птицы (рис. 1, 2 , 2, 8, 9 ).
Если предыдущие три наблюдения касались особенностей отпечатков отдельных элементов, то четвертое имеет отношение к системе взаимного расположения элементов на поверхности сосуда. Следует отметить, что места отростков чешуй шишек имеют строго упорядоченное расположение на стержне и находятся примерно на равном расстоянии друг от друга, что обусловлено морфологическим строением шишки. Поэтому при однократных оттисках отдельные отпечатки чешуй могут образовывать достаточно ровные ряды. Ранее И. Л. Чер-наем была отмечена система расположения рябчатых отпечатков в виде сетки «с ячейками в виде параллелограмма» ( Чернай , 1981. С. 71). Эта система лучшим образом характеризует расположение отпечатков чешуй шишек, но не является доказательством использования тканей или плетений, как полагал И. Л. Чернай. Строго упорядоченное расположение элементов имеют не только еловые шишки, но и многие другие похожие растительные объекты, например, колосья, побеги с почками и т. п.
До сих пор речь шла об облике отпечатков чешуй, образовавшихся в результате однократного прокатывания поверхности шишкой. Однако в процессе прокатывания неизбежно происходит частичное наложение одних отпечатков на другие, что создает дополнительное морфологическое многообразие следов. Рассмотрим, в чем же оно проявляется.
Процесс прокатывания, который в первом приближении можно реконструировать для дьяковской керамики, представляет собой последовательное перемещение инструмента вверх-вниз с небольшим (как правило, почти одинаковым) наклоном. В результате отпечатками заполняется, как правило, вся внешняя поверхность сосуда. При незначительном изменении траектории движения инструмента отдельные элементы будут располагаться рядом либо параллельно, либо под углом друг к другу (рис. 2, 9 ). За счет близкого прохождения штампа появляются сдвоенные (парные) отпечатки. Морфология таких отпечатков была описана ранее И. Л. Чернаем (1981) и Б. А. Фоломеевым (1998). Так, например, в классификации И. Л. Черная тип рябчатых включал 3 подтипа – полулунчатая фактура, двойной штрих и беспорядочная фактура.
В рамках подтипов выделены виды, которые различались по расположению элементов (равномерное, параллельно друг другу, под углом друг к другу, беспорядочно) ( Чернай , 1981. С. 72, 73). В этой классификации, судя по описанию, по крайней мере 7 из 11 дефиниций в рамках рябчатой фактуры можно отнести к следам одного и того же инструмента. Таким образом, предложенные ранее классификации текстильных отпечатков на дьяковской керамике требуют существенного пересмотра.
Теперь становится очевидным, что при прокатывании рассматриваемыми инструментами на одном сосуде могли сочетаться как единичные отпечатки, так и сдвоенные, а также расположенные более плотно: все зависит от интенсивности прокатывания. Кроме того, часто встречаются деформированные следы, связанные с наложением одного отпечатка на другой. Для керамики с рябчатой фактурой И. Л. Чернаем было неоднократно отмечено постепенное видоизменение отпечатков на одном сосуде. Более того, его определение рябчатой фактуры содержит указание на то, что этот тип отпечатков представляет собой элементы, «которые имеют между собой переходные вариации» (Там же. С. 72).
Таким образом, определенное морфологическое многообразие следов исследуемого инструмента связано, во-первых, со способами удаления чешуй шишек, во-вторых, с особенностями морфологического строения еловых шишек и, в-третьих, со способом работы мастера при прокатывании.
Подводя итоги, отметим, что в работе представлена реконструкция инструмента, использование которого имеет отношение только к одной из групп рябча-тых отпечатков на дьяковской текстильной керамике. Установлено, что этот вид отпечатков происходил путем прокатывания поверхности сосудов специфическими штампами естественного происхождения в виде еловых шишек с частично удаленными чешуями. Такие штампы могли являться полностью природными объектами, когда чешуи обтачивались мышевидными грызунами, а также быть специально изготовленными человеком путем целенаправленного удаления че-шуй. Специфические следы, оставляемые подобными предметами, позволяют довольно уверенно диагностировать этот вид орнаментира.
Сравнение отпечатков экспериментальных образцов с отпечатками на дьяковской керамике ряда Москворецких городищ дает основание высказать предварительное предположение о том, что полностью природные орнаменти-ры, такие как на рис. 1, 4 , использовались единично (рис. 1, 3 ), а специально изготовленные штампы из еловых шишек (рис. 2, 1, 4 ) – массово. Широкое распространение отпечатков, сделанных такими штампами, дает основание полагать, что использовались не случайные, а традиционные орнаментиры, а материал для них был доступен повсеместно в пределах распространения ареала ели.
Массовость рассмотренных отпечатков позволяет говорить о существовании определенной культурной традиции в среде дьяковского гончарства, которая имела глубокие корни. Есть все основания предполагать существование этого приема и в предшествующую эпоху. Эта традиция имела отношение к рельефному декорированию поверхности сосуда путем прокатывания.
Список литературы О происхождении одного вида отпечатков на поверхности «текстильной» керамики
- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука. 269 с.
- Лопатина О. А., 2009. Опыт технологического изучения «текстильных» отпечатков (на примере дьяковской керамики) /У истоков археологии Волго-Камья (к 150-летию открытия Ананьинского могильника)/Отв. ред. С. В. Кузьминых, А. А.Чижевский, Г. Р. Руденко. Елабуга: ИИ АНРТ. С. 204-212. (Археология Евразийских степей; вып. 8.)
- Лопатина О. А., 2015. К различению приемов прокатывания и выбивания на дьяковской «текстильной» керамике /Современные подходы к изучению древней керамики в археологии: Сб. мат-лов конф./Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 43-53.
- Народное искусство: путеводитель/Сост. И. Я. Богуславская. СПб.: Palace Editions. 132 с. (Русский музей представляет: альманах; № 177.)
- Ошмарин П. Г., Пикунов Д. Г., 1990. Следы в природе. М.: Наука. 296 с.
- Сидоров В. В., 2009. Реконструкции в первобытной археологии. М.: Таус. 216 с. С
- Сыроватко А. С, 2009. Юго-восточное Подмосковье в железном веке: к характеристике локальных вариантов дьяковской культуры. М.: CheBuk. 351 с.
- Чернай И. Л., 1981. Выработка текстиля у племен дьяковской культуры//СА. № 4. С. 70-86.
- Чернай И. Л., 1993. Макро-и микроструктура слепков с фактуры текстильной керамики//Финноугры в России/Отв. ред. В. С. Патрушев. Вып. 1: Памятники с ниточно-рябчатой керамикой: Сб. науч. тр. МарГУ Йошкар-Ола: МарГУ С. 35-47.
- Фоломеев Б. А., 1975. Тюков городок//СА. № 1. С. 154-170.
- Фоломеев Б. А., 1998. Фактура текстильной керамики бассейна Средней Оки//Археологические памятники Среднего Поочья. Вып. 7/Отв. ред. В. П. Челяпов. Рязань: НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Рязанской области. С. 79-105.
- Формозов А. Н., 2006. Спутник следопыта. 7-е изд. М.: КомКнига. 368 с.
- Шатров М. Н., 1938. Кировские кустари. Киров: Обл. изд-во. 168 с.