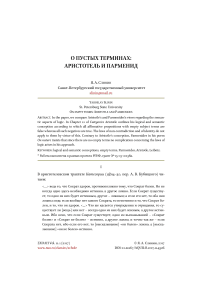О пустых терминах: Аристотель и Парменид
Автор: Слинин Ярослав Анатольевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Статья в выпуске: 1 т.11, 2017 года.
Бесплатный доступ
В данной статье логико-семантическая концепция, изложенная в десятой главе «Категорий» Аристотеля, сопоставляется с логико-семантической концепцией Парменида, которая находится в его поэме «О природе». Согласно Аристотелю, все утвердительные высказывания с пустым субъектом ложны, а все отрицательный - истинны, в силу чего применительно к такого рода высказываниям законы тождества и противоречия перестают действовать. Что касается Парменида, то он настаивает на том, что пустых терминов не бывает, и поэтому осложнений с основными законами логики в его концепции нет.
Логико-семантическая концепция, пустой термин, парменид, аристотель, лейбниц
Короткий адрес: https://sciup.org/147103492
IDR: 147103492 | DOI: 10.21267/AQUILO.2017.11.4526
Текст научной статьи О пустых терминах: Аристотель и Парменид
* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ, грант № 15-03-00138а.
I
В аристотелевском трактате Категории (13b14–30, пер. А. В. Кубицкого) читаем:
<…> ведь то, что Сократ здоров, противоположно тому, что Сократ болен. Но не всегда одно здесь необходимо истинно, а другое ложно. Если Сократ существует, то одно из них будет истинным, другое – ложным; а если его нет, то оба они ложны: ведь если вообще нет самого Сократа, то неистинно и то, что Сократ болен, и то, что он здоров. <…> Что же касается утверждения и отрицания, то существует ли [вещь] или нет – всегда одно из них будет ложным, а другое истинным. Ибо ясно, что если Сократ существует, одно из высказываний – «Сократ болен» и «Сократ не болен» – истинно, а другое ложно, и точно так же – если Сократа нет, ибо если его нет, то [высказывание] «он болен» ложно, а [высказывание] «он не болен» истинно.
ΣΧΟΛΗ Vol. 11. 1 (2017)
Перед нами то, что можно назвать логико-семантической концепцией Аристотеля. Давайте её проанализируем. Для этого аристотелевские примеры необходимо представить в удобном для логического анализа виде: ведь в учебных пособиях по логике говорится, что всякое простое предикативное высказывание состоит из субъекта, глагола-связки и предиката. Чтобы выявить все эти логико-синтаксические элементы, запишем аристотелевские примеры в такой, может быть, и неуклюжей форме: «Сократ есть здоровый», «Сократ есть больной» и «Сократ не есть больной».
Для того, чтобы понять, что́ в приведенном отрывке хочет сказать Аристотель, нужно обратить внимание на то, что глагол-связка «есть» (третье лицо, единственное число, настоящее время глагола «быть») несёт в его примерах двойную семантическую нагрузку. Во-первых, констатируется существование или несуществование субъекта высказывания, и это – первичное (основное) значение связки «есть». Либо Сократ есть, либо Сократ не есть. Во-вторых, констатируется причастность или непричастность предиката высказывания его субъекту, и это вторичное значение связки «есть». Либо Сократ есть больной, либо Сократ не есть больной.
Получается так, что вначале мы строим высказывание существования, которое может быть либо утвердительным, либо отрицательным, с синтаксической точки зрения, и либо истинным, либо ложным, с точки зрения семантической. И только позже, на базе уже построенного высказывания существования, мы организуем предикативное высказывание, которое синтаксически тоже может быть как утвердительным, так и отрицательным; семантическое же его «поведение» существенным образом зависит от значения истинности базисного высказывания существования.
Говоря об утверждении и отрицании, Аристотель начинает со случая, когда Сократ существует. Тут высказывание «Сократ есть» истинно, а высказывание «Сократ не есть» ложно. В данном случае субъект высказывания не пуст. Когда субъект не пуст и соответствующее ему утвердительное высказывание существования истинно, тогда организуемые на этой основе предикативные высказывания могут быть как истинными, так и ложными в зависимости от обстоятельств. Когда Сократ заболевает, тогда высказывание «Сократ есть больной» делается истинным, а высказывание «Сократ не есть больной» – ложным; когда Сократ выздоравливает, тогда высказывание «Сократ есть больной» становится ложным, а высказывание «Сократ не есть больной» – истинным.
Затем Аристотель переходит к случаю, когда субъект высказывания пуст, т. е. к случаю, когда Сократа не существует. Тогда высказывание «Сократ есть» ложно, а высказывание «Сократ не есть» истинно.
Согласно Аристотелю, если субъект высказывания не существует, то он не существует целиком и полностью, вместе со всеми его атрибутами. Поэтому на базе ложного утвердительного высказывания существования нельзя построить ни одного истинного предикативного высказывания. Какой бы предикат мы ни попытались приписать пустому субъекту, образовавшееся предикативное высказывание будет ложным в силу того, что ложно суждение существования, входящее в его состав. Если Сократа не существует, то будут ложными все предикативные высказывания, основанные на высказывании «Сократ есть». Будет ложным высказывание «Сократ есть больной», равно как и высказывание «Сократ есть здоровый». Такая же участь постигает вообще все утвердительные предикативные высказывания о несуществующем Сократе.
Зато все отрицательные предикативные высказывания с пустым субъектом истинны. Почему? Да потому, что соответствующие им утвердительные высказывания ложны. Если высказывание «Сократ есть больной» ложно, то, значит, высказывание «Сократ не есть больной» истинно; если высказывание «Сократ есть здоровый» ложно, то высказывание «Сократ не есть здоровый» истинно. И так далее.
Вот какова семантическая концепция Аристотеля. Вроде бы тут всё строго и правильно. Но как-то не уютно мы себя чувствуем в рамках этой концепции. Слишком уж она строга. В соответствии с ней ли мы живём, мыслим и рассуждаем?
Конечно, если мы о давно уже не существующем Сократе станем говорить, что он болен, что он здоров, что он сидит, что он лежит и т. п., то это будут ложные высказывания. Но разве ложным будет высказывание «Сократ есть великий философ», не взирая на то, что Сократа давно уже нет на свете? Ведь Сократ был и остается великим философом, точно так же, как Александр Македонский был и остается великим полководцем, а Цицерон – великим оратором, хотя оба они тоже давно уже не существуют.
Но, может быть, тут дело лишь в том, что термин «Сократ» просто неудачно взят Аристотелем в качестве примера? Может быть, этот термин просто недостаточно пуст?
Если бы Аристотель согласился с этим нашим замечанием, то оно бы его не смутило: он смог бы заменить термин «Сократ» другим, уже совершенно пустым термином, обозначающим нечто, никогда не существовавшее, не существующее и не могущее существовать. В его «Второй аналитике» (92b3–7, пер. Б. А. Фохта) мы читаем:
Необходимо ведь, чтобы тот, кто знает, что такое человек, или что-либо другое, знал также, что он есть, ибо о том, чего нет, никто не знает, что оно есть (но [из- вестно только], что́ означает [данное] слово или название, как если я, например, скажу «козлоолень». Но что такое «козлоолень» – это знать невозможно).
Термин «козлоолень» безупречно пуст, и если его подставить в вышеприведенные примеры Аристотеля, вместо термина «Сократ», то наше замечание будет снято. Однако если ещё более внимательно присмотреться к аристотелевской семантике, то обнаружатся неувязки с основными положениями логики. Эти неувязки имеют место и применительно к «козлооле-ню», и ко всем ему подобным пустым терминам.
Здесь будет уместно отметить то обстоятельство, что с пустыми терминами доводилось сталкиваться не только Аристотелю, но и логикам, жившим гораздо позже него. Так, например, в трактате Бертрана Рассела «Введение в математическую философию» в главе «Дескрипции» находится следующий текст:
Когда дескрипции входят в состав суждений, необходимо различать то, что может быть названо их п е р в ичным и вт ор ичн ым употреблением, или вхожден ием . Это различие состоит в следующем. «Первичное» употребление соответствует тем случаям, когда содержащее дескрипцию суждение является результатом подстановки дескрипции на место переменной x в некоторой пропозициональной функции φ x ; «вторичное» употребление соответствует тем случаям, когда в результате подстановки дескрипции на место переменной в φ x создается только часть суждения. Пример разъяснит это положение. Рассмотрим суждение «Нынешний король Франции лыс». В нем дескрипция нынешний король Франции употреблена в первичной функции, и всё суждение ложно. Всякое суждение, в котором дескрипция, употреблённая в первичной функции, ничего не описывает, является ложным. А теперь обратимся к отрицательному предложению «Нынешний король Франции не лыс». Оно неоднозначно. Если взять « x лыс» и заменить переменную дескрипцией нынешний король Франции, а затем ввести отрицание, то употребление дескрипции будет вторичным, и суждение окажется истинным; но если начать с отрицательного суждения « x не лыс» и в нём произвести замену x дескрипцией, то дескрипция имеет первичное употребление, а суждение является ложным ( Новое в зарубежной лингвистике , 53–54).
Когда Рассел писал то, что мы сейчас процитировали, он, конечно, не думал об Аристотеле, однако оно хорошо «вписывается» в семантическую концепцию Стагирита. При этом даже выявляются некоторые своего рода логические «шероховатости» последней.
Начать с того, что «нынешний король Франции» – это добротный пустой термин. Он ничем не хуже Аристотелева «козлооленя». Далее: утвердительное высказывание «Нынешний король Франции есть лысый» ложно. Это соответствует логической семантике Аристотеля. Теперь обратимся к вы- сказыванию «Нынешний король Франции не лыс». Вторичное употребление дескрипции в нём даст отрицательное высказывание «Нынешний король Франции не есть лысый», каковое истинно. И это снова соответствует аристотелевской семантике. А когда употребление дескрипции по отношению к исходному высказыванию оказывается первичным, то мы получаем не отрицательное высказывание, а утвердительное с отрицанием в предикате: «Нынешний король Франции не лысый». И оно ложно, как любое утвердительное высказывание, что опять же находится в соответствии с семантической концепцией Аристотеля.
Теперь о том, какие «логические шероховатости» этой концепции тут выявились. Выявилось то, что применительно к пустым терминам в ней не соблюдаются правила превращения высказываний, в то время как на всеобщем характере данных правил настаивают учебные пособия по логике.
Впрочем, что тут говорить о правилах превращения! Давайте поступим более решительно. Давайте в аристотелевских примерах вместо предикатов «больной» или «здоровый» подставим предикат «Сократ». И что мы получим? Мы получим, что если Сократа не существует, то высказывание «Сократ есть Сократ» ложно, а высказывание «Сократ не есть Сократ» истинно. Аналогично и высказывание «Козлоолень есть козлоолень» оказывается ложным, а высказывание «Козлоолень не есть козлоолень» оказывается истинным. То же самое и относительно нынешнего короля Франции.
Выходит, что в соответствии с аристотелевской семантической концепцией, к пустым терминам не применимы даже основные законы логики: закон тождества и закон противоречия. Выходит, что если Сократа давно не существует, то он уже и не Сократ, равно как выдуманный и вообще не способный к существованию козлоолень вовсе не является козлооленем.
Тут что-то не так. Ведь мы мыслим и говорим и о Сократе, и о козлоолене, и о нынешнем короле Франции. Но такое было бы невозможно, если бы они не подчинялись законам тождества и противоречия.
Значит, аристотелевская семантика – это не та семантика, которой мы пользуемся в нашей жизни и аристотелевская концепция имеет искусственный характер? Похоже, что так оно и есть. Тогда какая же логическая семантика лежит в основе нашей житейской практики?
II
Логико-семантическая концепция, альтернативная аристотелевской, существует. Она древнее аристотелевской и восходит к учению Парменида. Согласно этой концепции, пустых терминов вообще не бывает; точнее: имеется один-единственный пустой термин.
Обратимся к Пармениду (фр. 6, пер. А. В. Лебедева). Сохранился следующий фрагмент его поэмы «О природе»:
То, что высказывается и мыслится, необходимо должно быть сущим <…>, ибо есть – бытие,
А ничто – не есть: прошу тебя обдумать это.
Видим, что Парменид трактует термин «бытие» в самом широком смысле. В его понимании, существуют не только пребывающие здесь и теперь материальные вещи, но существует всё, что нами высказывается и мыслится. По Пармениду, Сократ, козлоолень и нынешний король Франции тоже существуют, так как мы о них мыслим и о них говорим. Для Парменида существует всё, кроме небытия.
Бытие существует, а небытия не существует – вот основной философский принцип Парменида.
Семантически этот принцип можно представить так: 1) высказывание «Бытие есть» истинно; 2) высказывание «Бытие не есть» ложно; 3) высказывание «Небытие есть» ложно; 4) высказывание «Небытие не есть» истинно.
Что бы мы ни высказали и что бы ни помыслили – это, согласно Пармениду, будет представлять собой разновидность бытия. И значит, применительно к чему угодно нами высказанному или помысленному утвердительное высказывание существования будет истинным, а отрицательное – ложным. Следовательно, в семантике Парменида высказывания: «Сократ есть», «Козлоолень есть» и «Нынешний король Франции есть» оказываются истинными, а высказывания: «Сократ не есть», «Козлоолень не есть» и «Нынешний король Франции не есть» – ложными.
Единственным ложным утвердительным высказыванием существования в семантике Парменида является высказывание «Небытие есть», а единственным истинным отрицательным высказыванием существования – высказывание «Небытие не есть». Единственным пустым термином в этой семантике является термин «небытие». Строго говоря, по Пармениду, небытие как таковое мы не имеем возможности ни помыслить, ни выразить в языке.
Ну, хорошо: Сократ, козлоолень и нынешний король Франции существуют. Но ведь совершенно ясно, что древнегреческий философ Сократ, существует не так, как существуем ныне живущие мы с вами, а козлоолень существует не так, как существуют козёл и олень, и нынешний король Франции – не так, как нынешний президент Франции. Устраняя пустые термины, семантика Парменида требует при этом, чтобы всё сущее обязательно разделялось на виды сущего. Одно дело – существование в настоящем и совсем другое – существование в прошлом или в будущем; одно дело – действи- тельное, реальное существование и совсем другое – существование в мире чистой фантазии.
Мы знаем, что Лейбниц учил о существовании бесконечного числа возможных миров. Так, например, в своём трактате «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла» он пишет, что «существует бесконечное число возможных миров, из которых Бог необходимо избрал наилучший, потому что Он всё производит по требованию высочайшего разума» (Лейбниц 1989, 136).
И ещё об одном очень важном для нас учении Лейбница. Оно ставит всё на свои места и устраняет наши логические «шероховатости» и парадоксы. В трактате «Монадология» мы читаем: «Есть также два рода истин: истины разума и истины факта . Истины разума необходимы, и противоположное им невозможно; истины факта случайны, и противоположное им возможно» (Лейбниц 1982, 418).
Истинами разума Лейбниц считает законы логики, законы математики и вообще все истины, входящие в картезианский Mathesis universalis . Истинами факта являются все истины естественных наук и нашего житейского опыта.
И самое главное: согласно Лейбницу, истины разума одни и те же во всех мирах; отличаются же возможные миры друг от друга тем, что, по крайней мере, некоторые истины факта в каждом из них не такие, как во всех остальных.
Если так, то закон тождества и закон противоречия, равно как и все остальные законы как логики, так и математики, распространяются и на то, что существует в действительности, и на то, что существует в чистой фантазии, и на то, что существует в настоящем, и на то, что существует в прошлом или в будущем. Поэтому в семантике Парменида, упорядоченной учением Лейбница об истинах разума и факта, высказывание «Сократ есть Сократ» будет истинным, а высказывание «Сократ не есть Сократ» – ложным, высказывание «Козлоолень есть козлоолень» – истинным, а «Козлоолень не есть козлоолень» – ложным.
И мы живём и действуем в соответствии с именно этой семантикой, с семантикой Парменида–Лейбница, хотя некоторые особенности языка провоцируют на то, чтобы практикуемой нами логической семантикой считать семантику Аристотеля. Однако не следует подходить слишком уж «буквально» к тому, как мы говорим и как пишем.
В самом деле, когда мы говорим: «Сократа не существует», мы вовсе не хотим сказать, что после смерти он превратился в ноль, аннигилировался без остатка. Мы прекрасно знаем, что он продолжает после смерти существовать, но уже в другом обличье: он существует исключительно в мире прошедшего. Говоря о том, что Сократа не существует, мы хотим сказать, что его не существует здесь и теперь. Для того чтобы быть вполне точными и пунктуальными, мы должны выразиться так: «Сократа не существует здесь и теперь; он существует в мире прошедшего».
Но понятно, что язык не выносит постоянного повторения подобного рода длинных фраз, и происходит «усечение»: мы говорим и пишем: «Сократа не существует», а все остальное подразумеваем, «держим в уме».
Точно так же, говоря: «Козлооленя не существует», мы не хотим сказать, что его не существует ни в каком отношении. Нет, козлоолень существует, но существует в мире чистой фантазии. Его мы не найдем в реальном мире, но в мире чистой фантазии он находит себе место рядом с химерой, амфис-беной, Золотым руном, равно как и другими вымышленными существами и вещами. Если бы мы хотели быть пунктуальными, мы должны были бы сказать: «Козлооленя не существует в действительности, но он существует в мире фантазии». Мы же говорим кратко: «Козлооленя нет», подразумевая, что в мире чистой фантазии он-таки есть.
Ясно, что все высказывания существования, как утвердительные, так и отрицательные, суть эллипсисы. При этом сохраняется в явном виде важная для житейской практики и обслуживающей её науки часть высказывания и опускается часть маловажная для них. Важно то, что существует здесь и теперь, а что было, то «быльём поросло». Важно то, что происходит в действительности, а происходящее в «возможных мирах» «Илиады» и «Одиссеи», «Божественной комедии» и «Дон Кихота Ламанчского», «Фауста» и «Евгения Онегина» годится лишь для развлечения или для поучительных иносказаний. Но ведь без развлечений и поучений серьёзный человек вполне может обойтись. Поэтому для позитивной науки миры чистой фантазии как бы и не существуют.
Список литературы О пустых терминах: Аристотель и Парменид
- Аристотель (1978) Сочинения в 4-х тт. Москва. Том 2.
- Новое в зарубежной лингвистике (1982) Выпуск XIII. Москва.
- Лебедев, А. В., сост. (1989) Фрагменты ранних греческих философов. Москва.
- Лейбниц Г. В. (1982) Сочинения в 4-х тт. Москва. Т. 1.
- Лейбниц Г. В. (1989) Сочинения в 4-х тт. Москва. Т. 4.