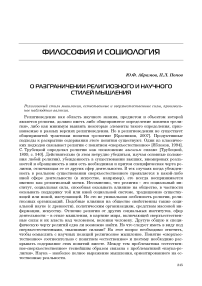О разграничении религиозного и научного стилей мышления
Автор: Абрамов Юрий Федорович, Попов Петр Леонидович
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Философия и социология
Статья в выпуске: 2 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
Уверенность в существовании сверхъестественных сил и в их влиянии на человека - это сущность религиозного стиля мышления. Научному мышлению свойственно требование возможности произвольного наблюдения явления. С точки зрения религиозного мышления сверхъестественные реальности не поддаются произвольному наблюдению.
Религиозный стиль мышления, естественные и сверхъестественные силы, произвольное наблюдение явления
Короткий адрес: https://sciup.org/144153463
IDR: 144153463
Текст научной статьи О разграничении религиозного и научного стилей мышления
Религиозный стиль мышления, естественные и сверхъестественные силы, произвольное наблюдение явления.
Религиоведение как область научного знания, предметом и объектом которой является религия, должно иметь либо общепринятое определение понятия «религия», либо как минимум выявить некоторые элементы такого определения, признаваемые в разных версиях религиоведения. Но в религиоведении не существует общепринятой трактовки понятия «религия» [Красников, 2007]. Продуктивные подходы к раскрытию содержания этого понятия существуют. Один из классических подходов связывает религию с понятием «сверхъестественное» [Яблоков, 1994]. С. Трубецкой определял религию как «поклонение высшим силам» [Трубецкой, 1899, с. 540]. Действительно (в этом нетрудно убедиться, изучая основные положения любой религии), убежденность в существовании высших, внемировых реальностей и обращенность к ним есть необходимая и притом специфическая черта религии, отличающая ее от других сфер деятельности. В тех случаях когда убежденность в реальном существовании сверхъестественного проявляется в какой-либо иной сфере деятельности (в искусстве, например), это всегда воспринимается именно как религиозный мотив. Несомненно, что религия – это социальный институт, социальная сила, способная оказывать влияние на общество, в частности оказывать поддержку той или иной социальной системе, традиционно существующей или новой, наступающей. Но это не уникальная особенность религии, религиозных организаций. Подобные влияния на общество свойственны также социальной науке (с древности), политическим организациям, средствам массовой информации, искусству. Отличие религии от других социальных институтов, сфер деятельности – в стиле мышления, в картине мира, включающей сверхъестественные силы и их власть над человеком, веления человеку. Другую общую и специфическую черту религий едва ли возможно найти. Но что следует иметь в виду под сверхъестественными, «высшими» силами? На этот вопрос необходимо ответить, чтобы осмыслить с научных позиций религиозное мышление. Понятие «сверхъестественное» соотносительно с понятием «естественное» и поэтому необходимо раскрывать содержание этих понятий вместе. Между тем проблематика «естествен-ное-сверхъестественное» теснейшим образом связана с проблематикой «наука-религия». Наука – наиболее полное выражение мышления, ориентированного на естественные реальности.
Анализ различий и сходств между религией и наукой требует анализа понятия «сверхъестественное».
Концепции религиоведения могут быть разными. Но без разработки данной проблемы, то есть проблемы понятия «сверхъестественное», как и без анализа многоаспектных отношений науки и религии, ни одна версия религиоведения не может обойтись. Мы полагаем, что эта проблема не только фундаментальна, но абсолютно неизбежна для любой методологической концепции религиоведения, более того, абсолютно неизбежна безотносительно к тому, какую позицию в подборе проблем не избирали бы исследователи, работающие в данной сфере. В данном материале мы предлагаем рассмотрение одной из граней этой проблемы.
Понятия естественных и сверхъестественных реальностей. С глубокой древности в самых разных культурах наблюдается тенденция к расхождению понятий о двух классах сил – естественных и сверхъестественных. Раннему мышлению свойственна неточность, «диффузность» [Алексеев, 1984] понятий вообще, и к понятиям сверхъестественных и естественных сил это относится, может быть, в большей степени, чем к другим. Первобытный человек (как в наше время – представитель архаичных культур) приписывал некоторым естественным феноменам (животным и растениям, например) мистические черты. И вместе с тем первобытный человек, несомненно, отличал реальных зверей от «духов», в существовании которых он не сомневался. И свое поведение по отношению к реальным зверям он строил иначе, чем по отношению к «духам». На зверей можно охотиться, зверей можно ловить, мясо зверей может использоваться в пищу. Но «духов» можно только просить, задабривать жертвоприношениями, привлекать или отпугивать заклинаниями.
Понятие сверхъестественной силы в разных культурах имеет очень сходные характеристики. Не будем сейчас рассматривать все признаки, мыслимые в понятии «сверхъестественная сила». Отметим один признак, очень важный для различения научного и религиозного мышления.
Сверхъестественные силы нельзя наблюдать по собственному усмотрению. Любую естественную силу способен наблюдать любой человек, если ему известен способ ее наблюдения. Любого реального зверя можно выследить, принципиально эта задача разрешима для любого подготовленного человека. Но «дух» явится только по его, «духа», усмотрению, а не по воле человека. В мистических традициях, в том числе ранних (шаманизм), есть представление об особых людях, посредниках с миром духов, которые могут по собственной воле общаться с «духами». Но и с точки зрения этого представления возможности произвольного наблюдения «духов» радикально ограничены. Такое наблюдение доступно немногим людям (и дело здесь, видимо, не только в подготовке, но в особой предрасположенности), и кроме того, вызов «духа» это все-таки просьба, решение о согласии на общение остается за «духом». Возможности доказательства факта общения с «духами» ограничены, по сравнению с возможностями доказательства контакта с естественными силами, феноменами. Вещественных доказательств существования «духов», столь же убедительных, какие имеются, например, для реальных зверей, не бывает.
Уверенность в существовании сверхъестественных сил была свойственна всем культурам и стала причиной формирования религии как особой сферы деятельности и особого стиля мышления.
Результатом развития понятия «сверхъестественная сила» стало понятие «сверхъестественный (потусторонний) мир». Если существуют сверхъестественные силы, то существует и сверхъестественный мир (миры), откуда эти силы являются в наш мир и куда они удаляются. Неподконтрольность сверхъестественных сил произвольному наблюдению отчасти связана – с точки зрения признающего их существование мышления – с возможностью их перехода из мира в мир.
О сверхъестественных мирах можно сказать, как и о сверхъестественных силах, что их невозможно наблюдать по собственному усмотрению. В этом принципиальное отличие сверхъестественных реальностей от естественных. Еще раз отметим, что любая естественная сила может наблюдаться любым человеком – если ему известен алгоритм, способ ее наблюдения. Более подробно проблематика алгоритма произвольного наблюдения явления рассматривалась ранее [Попов, 2009; 2010].
Обычно религии, в том числе ранние, утверждают существование одного естественного мира и двух сверхъестественных миров – мира добрых сил, ассоциирующегося с небом, светом, радостью, добром, и мира злых сил, ассоциирующегося с подземельем, тьмой, страданием, злом.
Существует также понятие сверхъестественных способностей. В этом понятии мыслятся способности, свойственные немногим, исключительным людям, позволяющие вступать в контакт со сверхъестественными силами или сверхъестественными мирами. Как правило, эти способности проявляются непредсказуемо даже для их носителя (то есть носитель способностей, рассматриваемых как сверхъестественные, не всегда может произвольно ввести себя в состояние, которое рассматривается как контакт со сверхъестественными реальностями).
Значение принципа произвольного наблюдения для разграничения религиозного и научного мышления. Религия и наука формируют собственные системы знаний. И охарактеризовать сходство и различие религии и науки можно в том отношении, откуда, каким образом возникают знания, входящие в религиозные и научные системы.
Мы сейчас не даем определения понятию «наука», отметим один чрезвычайно важный признак, отграничивающий ее от религиозного мышления. Это ориентированность науки, следовательно, и научного опыта, исключительно либо на явления, поддающиеся непосредственному произвольному наблюдению, либо на явления, факт существования которых логически корректно выводится из существования определенного комплекса произвольно наблюдаемых явлений. Подконтрольность произвольному наблюдению – один из признаков естественного явления.
И для религии, и для науки источниками знаний являются опыт, логика, интуиция и авторитет. Наиболее глубокие различия религии и науки обнаруживаются в отношении опыта. Религиозный опыт отличается от научного. Этим отличием определяется и различная роль авторитета и интуиции в религии и науке.
Нередко утверждается, что научные утверждения поддаются опытной проверке. Это верно, но необходимо уточнение, что речь идет о произвольной проверке. Суть здесь не в количестве наблюдателей, а в произвольности наблюдения.
Любой человек, верящий научным авторитетам на слово, например в вопросе о существовании генов – участков молекулы ДНК, передающих определенные блоки наследственной информации живого организма, обладает принципиальной способностью, если у него будет такое желание, стать участником экспериментов, подтверждающих существование генов, то есть он может произвольно наблюдать (и знает об этой возможности) сами гены или явления, существованием которых логически доказывается существование генов.
Религиозное мышление тоже опирается на опыт. Поскольку сообщения о наблюдении сверхъестественных явлений многократны, можно тоже сказать, что утверждения о существовании этих явлений проходят опытную проверку. Но невозмож- но наблюдать сверхъестественные явления по произволу. С точки зрения религиозного мышления знания о сверхъестественных силах даются в опыте немногим людям. Поэтому значение авторитета, доверия в религии больше, чем в науке.
Соответственно, различается и значение интуиции. В науке значение интуиции чрезвычайно велико, интуиция помогает делать первые шаги исследования (ставить проблему), найти правильный путь к решению проблемы. Но силой решающего доказательства существования явления обладает все же не интуиция, а опыт (произвольно проверяемый).
В религии нет столь строгого опытного критерия. Некоторые части Священного писания могут иметь различное толкование; авторитетный богослов дает толкование, подсказываемое не только логикой (она недостаточна в данном случае), но и интуицией. Значение интуиции в религии связано со значением авторитета. И как значение интуиции, так и значение авторитета связаны с наличием неопределенностей в религиозном знании, обусловленным невозможностью произвольной проверки утверждений о сверхъестественных реальностях.
Что же касается логики, то она крайне важна и в религии, и в науке. Идеи, выраженные в тексте, рассматриваемом как откровение сверхъестественных сил человеку, для религии в данном отношении подобны аксиомам для математики или эмпирическим фактам для естественных и социальных наук. Патристика, средневековая схоластика, современная теология – сложные системы знаний, логически выстроенные на основе идей Священного писания и решений ранних церковных соборов (которые принимались в полемике, то есть тоже на основе логической аргументации).
Христианской церкви всегда была свойственна высокая логическая культура.
Нередко утверждается, что наука чужда всякому догматизму. Это не совсем верно. Убежденность в том, что в мире существуют только силы, доступные произвольному наблюдению, имеет догматический характер. Некоторый уклон к этому убеждению (даже без его явной формулировки) научному стилю мышления свойствен.
Области знаний, пограничные между религией и наукой. При всех различиях понятий естественных и сверхъестественных реальностей все же понятия, занимающие в каком-то смысле переходное положение между ними, существуют. И соответственно, области знания, занимающиеся такими понятиями, сближаются и с наукой, и с религией.
Прежде всего, рассмотрим с этой точки зрения такую область знания, как идеалистическая философия. Философия вообще – область знания, близкая к науке (иногда считающаяся частью науки). Но она в некоторых своих частях, аспектах близка и к религии. Объективный идеализм однозначно связан с религией, притом обычно с монотеистической религией (христианство, ислам, иудаизм) или с явной монотеистической тенденцией в рамках философии – у Платона, Аристотеля, их языческих предшественников и последователей. Эмпирический мир с точки зрения объективного идеализма есть нечто производное от сверхъестественных реальностей – Бога, «мира идей». Субъективный идеализм не всегда явно связан с религией, но проводимое в рамках субъективного идеализма резкое разделение «мира для нас», «нашего», эмпирического, чувственного мира и его сверхчувственной, непознаваемой основы напоминает свойственное религиозному мышлению разделение естественного и сверхъестественного мира (или миров). Сверхъестественный мир в религии является в каком-то смысле сверхчувственным, а сверхчувственный мир (или сверхчувственный аспект мира) в субъективном идеализме напоминает сверхъестественный. Сверхчувственный мир непознаваем, отсюда следует, что непредсказуем для человека, может быть источником феноменов чувственного мира, воспринимаемых человеком как сверхъестественные феномены. Такое сходство благоприятствует сочетанию религии и субъективного идеализма.
Особое положение в контексте различий между понятиями естественных и сверхъестественных способностей и, соответственно, между наукой и религией (или мистикой) занимают так называемые экстрасенсорные, или парапсихологические, феномены.
Их существование не считается научно доказанным. Причиной тому является, в частности, трудность произвольного наблюдения этих феноменов. Можно сказать, что экстрасенсорика занимает промежуточное положение между наукой и мистикой. Экстрасенсорные, или парапсихологические, явления (как они предстают в сообщениях о них – вопрос о реальном их существовании остается открытым) занимают промежуточное положение между естественными и сверхъестественными (как они предстают в сообщениях о них) явлениями. Экстрасенсорные феномены иногда рассматриваются мистически – не как результат действия некоего физического фактора, но как результат вмешательства сверхъестественных сил в жизнь людей. При этом сверхъестественные силы могут быть как добрыми, так и злыми. С этой точки зрения экстрасенс – не носитель естественных, но не свойственных большинству людей или свойственных в меньшей степени способностей, а человек, по-особому связанный с ангельским или демонским миром.
Есть и иная группа понятий, присутствующих в науке (может быть, на ее периферии), но сближающихся с понятием сверхъестественных реальностей. Это понятия некоторых гипотетических феноменов (типа жителей иных планет, иных измерений). В свое время К.Э. Циолковский, который был, как известно, не только автором одного из первых научных проектов полета в космос, но и философом-космистом, пришел к мнению, что в космосе присутствуют неизвестные разумные силы и что величайший Разум господствует в космосе. Гипотеза множественности обитаемых миров возникла в рамках научного мышления (Бруно), притом в конфликте с принятой церковью точкой зрения. Гипотеза о существовании иных измерений у физического пространства тоже является научной. Как следует идентифицировать жителей иных планет или иных измерений, если они крайне далеко ушли от человека в познании мира? Как естественную или сверхъестественную силу? Можно ли представить реальную ситуацию, когда трудно провести границу между понятиями «естественное» и «сверхъестественное»? Взгляды К.Э. Циолковского были названы (им самим или другими) космической религией (хотя в этих взглядах сверхъестественных реальностей в классическом религиозном смысле нет). Являются ли эти и подобные взгляды нетрадиционно-религиозными или все же научно-гипотетическими? На поставленные вопросы трудно дать однозначный ответ.
И, наконец, существует религиоведение – часть философии, связанная с религией не только в том очевидном отношении, что религия – ее предмет, но также и в том отношении, что в рамках религиоведения неизбежно должна ставиться проблема существования сверхъестественных реальностей. Эта проблематика присутствует в теологии (как проблема доказательства их существования).
В свою очередь, в религии есть области, относительно приближенные к науке, – это религиозная философия, теология (здесь соприкосновение с философским идеализмом).
В религии присутствует и блок знаний о светской науке – своего рода религиозное науковедение (или его элементы), параллель научному религиоведению. Это тоже область взаимодействия религии и науки. Здесь свого рода многоступенчатая рефлексия: наука изучает религию, религия изучает науку и каждая система знаний рассматривает свой образ, формируемый в иной системе знаний.
Выводы
-
1. Подконтрольность произвольному наблюдению – необходимый признак, мыслимый в понятии естественного, включаемого в научную картину мира явления.
-
2. Неподконтрольность произвольному наблюдению – необходимый признак, мыслимый в понятии сверхъестественного, включаемого в религиозную, но не в научную картину мира, явления.
-
3. Различие научного опыта (включающего формулирование алгоритма произвольного наблюдения явления) и религиозного опыта приводит к большему значению интуиции и авторитета как источников знания в религии по сравнению с наукой.
-
4. Понятия, пограничные между понятиями естественных и сверхъестественных реальностей, и области знаний, до некоторой степени пограничные между религией и наукой, существуют.