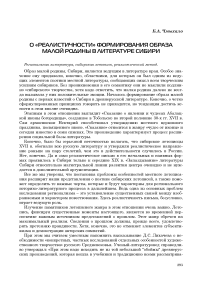О «реалистичности» формирования образа малой родины в литературе Сибири
Автор: Чмыхало Борис Анатольевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению особенностей поэтики сибирского летописания в контексте регионального историко-литературного процесса. Установление связей между изображаемым и характером повествования позволяет автору статьи обозначить и прокомментировать одну из ведущих тенденций сибирской литературы на примере жанра летописи - реалистичность письма, проявляющуюся на разных уровнях художественного текста.
Региональная литература, сибирская летопись, реалистический метод
Короткий адрес: https://sciup.org/144153404
IDR: 144153404
Текст научной статьи О «реалистичности» формирования образа малой родины в литературе Сибири
Образ малой родины, Сибири, является ведущим в литературе края. Особое значение ему придавали, конечно, областники, для которых он был одним из ведущих элементов поэтики местной литературы, сообщающих смысл всем творческим усилиям сибиряков. Без проникновения в его семантику они не мыслили подлинно «сибирского» творчества, хотя надо отметить, что малая родина далеко не всегда вызывала у них положительные эмоции. Началось формирование образа малой родины с первых известий о Сибири в древнерусской литературе. Конечно, о четко сформулированных принципах говорить не приходится, но тенденция достичь ясности в этом вполне очевидна.
Этапным в этом отношении выглядит «Сказание о явлении и чудесах Абалац-кой иконы богородицы», созданное в Тобольске во второй половине 30-х гг. ХVII в. Сам архиепископ Нектарий способствовал утверждению местного церковного праздника, посвященного иконе. «Сказание» относится к жанру «чудес от иконы» и сегодня известно в семи списках. Это произведение характеризует процесс расширения социальной базы литературы.
Конечно, было бы серьезной неточностью полагать, что сибирские летописцы XVII в. обогнали всю русскую литературу и утвердили реалистическое направление раньше на пару столетий, чем это в действительности случилось в России. Нет, конечно. Да и само реалистическое письмо в его начальных и наивных формах проявилось в Сибири только к середине XIX в. «Запаздывание» литературы Сибири относительно магистральной линии развития центра очевидно и не нуждается в дополнительной аргументации.
Все же мы уверены, что постановка проблемы особенностей местного летописания расширит наши представления о поэтике сибирских летописей, а также поможет определить те важные черты, которые и будут характерны для регионального историко-литературного процесса в дальнейшем. Ведь одна из основных проблем исследования регионализма – это установление существенных связей между изображаемым и характером повествования. Здесь реалистичность письма, безусловно, играет ведущую роль.
Изучение памятников летописного жанра в этом отношении очень важно. Летопись, фиксируя существенные моменты настоящего, является во временной перспективе важным источником представлений о прошлом. Этот жанр обречен на максимальный реализм. Сведения о прошлом должны, прежде всего, удовлетворять претензию правдивости. Хотя, конечно, это не отменяет элементов субъективизма и демонстрации авторских симпатий.
При этом мы считаем уместным напомнить высказывание Д.С. Лихачева о необходимости «конкретных, частных исследований отдельных особенностей художественного творчества» русского Средневековья. Ученый-литературовед справедливо утверждал: «При этом надо исходить не из той небольшой ''обоймы'' древнерусских произведений, которая вошла в учебники и традиционно всеми рассматрива- ется, а как можно шире охватить материал, все разнообразие жанров литературы Древней Руси» [Лихачев, 1999, с. 298]. Литература Сибири XVII в. представляет в данном отношении особый интерес. Именно художественные особенности сибирских летописей оказались наиболее соответствующими логике существования этого жанра в русской средневековой литературе. В центре уже обозначился кризис летописания. Оно замещалось произведениями, выполняющими сходные функции, но применительно к переходному времени, которое переживала русская литература.
Цитируемые ниже тексты приводятся по изданию сибирских летописей, составленному и отредактированному крупным исследователем древнего периода развития литературы Сибири Е.И. Дергачевой-Скоп.
Уже в Румянцевском летописце, легшем в основу целого ряда летописных известий о сибирских событиях XVI – XVII вв., мы находим очевидное стремление к конкретизации и реалистичности материала. Оно выражается не только в подробном описании «расселения» народов Сибири, значимых этнографических подробностях. Первые же сведения о «царе» Кучуме и приходе Ермака изложены живо, ярко, с явным намерением избавиться от этикетных описаний. Автор стремится «показать» сами события, прибегая при этом к помощи своеобразных «драматических» приемов, смело используя прямую речь: «На усть же той реки (Тавды. – Б.Ч. ) поимаша тотарина царева двора, именем Таузан. Татарин же той вся сказа про царя Кучюма. И начаша при нем стреляти изо оружия, и отпустиша его к царю Кучюму, да скажет про их пришествие. Той же тотарин, пришед, сказа царю русских вой пришествие, и се сказа, яко: ''Егда они стреляют из луков своих, ино ис конца дым и огнь исходит и голкнет громко, а пробивают наши куяки и бахтерцы навылет''. Царь же Кучюм велми печален бысть, слышав их мужество и храбрость, и вскоре посла во всю свою державу по мурзы и прочее воинство» [Летописи сибирские, 1991, с. 12].
Огнестрельное оружие, которым обладали «Ермак со товарищи», действительно, сыграло решающую роль в сибирской кампании. Поэтому автор летописца, упомянув о «пищалях и пушках полковых» завоевателей Сибири, продолжает развивать эту тему уже устами мурзы оппонента Ермака – Кучума. Но цель повествования – все же показать военный паритет противников, где на стороне «сибирского царя» был численный перевес («единому казаку братися з десятию или з дватцатию поганых») и умение воевать в сибирских условиях. Дальнейшие действия Кучума только подтверждают такое предположение: «И повеле Кучюм сыну своему Мамет-кулу со множеством войска идти на казаков бранию. Сам же повеле крепити осаду и засеку учини подле реку Иртишь под Чювашевым: засыпати камением и многими крепостьми утверди, яко достойне осаде крепце быти» [Там же].
Так, в сущности, несколькими простыми деталями автором летописи обрисована суть военной стороны противостояния. Описание рекогносцировки противников перед «сибирским взятием» вполне конкретно, хотя провиденциальные умозаключения о «Божьей помощи» русским воинам появляются в тексте летописи уже в первом же рассказе о столкновении казаков с «неверными». Столь же трафаретными формулами пронизаны «стенания» униженного Кучума после поражения: «Царь же Кучюм, виде своего царства лишение и, рече сущим с ним: ''Побежим немедля, видим бо и сами, яко силнии наши изнемогоша и храбрии побиени быша. О люте! О горе мне! Увы мне! Что сотворю или камо бежю! Покры срамота лицо мое!''» [Летописи сибирские, 1991, с. 14].
В Погодинском летописце этот эпизод «сибирского взятия» приобретает еще более пространные и значимые черты. В главе под названием «О побеге царя Кучу-ма», который соответствует рассказу в Румянцевском летописце, с целью подчеркнуть провиденциальный характер события говорится об отсутствии Кучуму «помощи» и «удачи» со стороны «богопротивных истуканов» (т. е. местных богов. – Б.Ч. ). В свою очередь, «царь же Кучюм виде руским людем поможение всесилного Бога, сотворившего Небо и Землю». Он, будучи «скорбен зело», разражается более «продуманной» речью, состоящей из четырех фрагментов. Первый почти дословно соответствует реплике из Румянцевского летописца: «Побежим не медлюще, сами видим всему лишение; были силнии, а ини изнемогша».
Но автору Погодинского летописца этого, по всей видимости, уже кажется недостаточным. Далее Кучум сам делает «выводы» из своего поражения: «“Что сотворю и где скрытись? Покры срамота лицо мое”. И еще рече к своим: “Хто мя победи, из царства отогна? Ведаем, от простых бо людей Ермак, и не со многими прииде, и то-лико зло сотвори: вся моя изби и меня посрами”. И потом глаголя: “Яз победи во граде Сибири князей Едигера и Бекбулата и многое богатство приобретох, тако же ни от кого послан, а ныне обратились мои дела противу мне“» [Летописи сибирские, 1991, с. 74].
Кучум ищет суть военной неудачи, прежде всего, не в боевом превосходстве русских пришельцев («не со многими прииде»), а в собственных делах и поступках. Здесь мы видим стремление автора летописного сообщения робко «вскрыть» психологическую подоплеку события, которая является в данном случае «вспомогательной» для провиденциальной его трактовки. Но, видимо, представляется автору важной для определения «подлинных» причин поражения. Все же наиболее общим местом характеристик Кучума остается его «гордость». Эта морально-христианская оценка в летописях распространяется и на воинство «сибирского царя», что также находится в согласии с провиденциальными подходами.
Как отмечает Лихачев, реалистические элементы очень часто встречаются в рассказах о чудесах, видениях и т. д. Это понятно, потому что важной задачей автора было убеждение читателя в достоверности описываемых событий. В тексте Румянцевской летописи, например, рассказывается о «явлении небесном», которое связывается со смертью Ивана IV: «Тоя же зимы явися знамение меж Благовещения Иоанна Великаго, явися крест на небеси да звезда с хвостиком, ближние же люди возвестиша о том знамении государю, государь же изыде на Красное крыльцо, и посмотрив на знамение, и рече предстоящим: ''Сие знамение к смерти моей есть''. И после того мало время спустя то же зимы в недуг впаде тяжек» [Летописи сибирские, 1991, с. 18]. «Явление» сближает два мира – земной и «небесный», свидетельствуя об их неразрывной связи, а следовательно, усиливает провиденциальную трактовку событий.
В Погодинской летописи достаточно много внимания уделяется «детализации» описаний, уточнению их временно-пространственных характеристик: « Того же лета, во время Великаго поста , прииде Карача со многими воинскими людьми и об-легоша град Сибирь и станы поставиша, сам же Карача ста в некоем месте, зовом Саукъсан, от града яко три поприща по реке Иртышу , и многую гражаном тесноту деяше. Тогда же стояше до пролития воды, до месяца июня » (курсив автора статьи. - Б.Ч. ) [Летописи сибирские, 1991, с. 84].
Подобных фрагментов в сибирских летописях немало, так как эти «уточнения» играли в летописном повествовании роль своеобразного индикатора «правдивости» и «реальности» сообщаемых автором сведений. Авторы, таким образом, показыва- ют, что описываемые события известны им досконально, в деталях. Добавим, что прием к тому же отражает своеобразную «легкость» пространственного мышления, свойственного космографическим сочинениям.
В описаниях Сибири в хронографической повести «О победе на бесерменского царя Кучума…» автор вначале идет по пути простого перечисления населяющих страну «разноязыких» народов и указаний на особенности сибирского быта. Но это ему представляется недостаточным. Он стремится обозначить экзотические для читателя детали и подробности, наполняя тем самым повествование элементами «сказочной» реальности. Для большей «правдивости» автор эмоционально ссылается на собственные впечатления, оперируя при этом «точными» цифрами: «Обретает же ся в том царстве в реках зверь, его же наричют мамант, а по их татарскому языку ''кытр''. Зело велик! Сего зверя не видают, кости же его обретают на брезех речных. Главу же видех младаго того зверя весом десять пуд, подобие же главы зверя рыло, яко у свиньи: верх уст его две трубы долги и широки, исподнею губу имеет ниско под трубами, близко к горлу; зубов же имеет у себе 8, един же зуб тое малые главы 12 фунтов весом; имеет же тот зверь на главе два рога (?), подобны воловым рогом. Видех же и с болшаго зверя рог – толщиною у корени поларшина, а верхней конец в три вершка толщиною, а длина – две сажени, а сказывают, что и болши, а весом тот рог – полтора пуда. А живет тот великий зверь в земле и в воде (?)» [Летописи сибирские, 1991, с. 44,46].
В подобном же духе выдержаны дальнейшие описания сибирских «змея», «птицы». Конечно, говорить о «реализме» подобных фрагментов можно лишь в широком смысле этого слова. Это скорее дань своеобразной «нарядности» текста, как ее понимали в XVII в., яркое свидетельство особой информированности автора. В данном случае нельзя не согласиться с мнением Лихачева, что «реалистические элементы появляются под воздействием определенного художественного задания» [Лихачев, 1999, с. 270]. Личные наблюдения такого плана должны были придать авторитетность и уникальность сведениям о загадочном «царстве» на востоке Русского государства.
Одним из важных признаков реалистической манеры письма является также индивидуализация прямой речи. Надо сказать, что для сибирского летописания с сюжетной точки зрения было важно периодическое «предоставление слова» его главным героям-антагонистам, как Кучуму, так и, конечно, Ермаку. В этих фрагментах, как уже говорилось, авторы летописных текстов пытаются мотивировать те или иные поступки героев.
Достаточно обширно, например, излагается обращение Ермака к сотоварищам в Строгановской летописи. Монолог характерен «вставками» явно фольклорного происхождения, о чем свидетельствуют ритмические повторы и внутренняя рифма: «Не ратная труба протрубила – говорил атаман Ермак Тимофеевичь: ''О есте, братцы, атаманы и казаки – донские, яицкие, волские и терские! Думайте думу, братцы, с цела ума, чтобы нам не продуматца: на Волге нам жить – ворами слыть, а на Дону нам жить – казаками слыть, а на Яик идти – переход велик, а се – добычи нет. Да нам же негораздо шуточка нашутилась, что розбили мы лотку коломенку и громили казну государеву; из тово мушкета немецково вылетала пулка свинцовая, из тово кафтана камчатово выносила бумагу хлопчатую, убила посла государева. А шел тот посол под Астрахань с ево государевою великою денежною и пороховою до Шевкал. И мы толко ныне не поидем таким честным людям на помогание, и они на нас станут писать к Москве непослушание государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа России, и государь на нас роскручинится, ве- лит нас переимать, и по городам розослать, и по темницам розсажать, а меня, Ермака, велит государь царь повесить, потому что болшому человеку болшая и честь бывает''» [Летописи сибирские, 1991, с. 120].
Монолог Ермака приведен здесь не полностью, хотя даже этот отрывок дает возможность понять, что автор стремится средствами прямой речи охарактеризовать героя, который с некоторой самоиронией выделяет себя, «болшого человека», из казацкого окружения. Речевыми особенностями, таким образом, достигается тот эффект, который в повествовании возможен при использовании точной детали. В финале отрывка Ермак как бы «конкретизирует» свою роль, лишая последнюю ореола «корпоративности» и намечая индивидуальную судьбу.
Здесь мы встречаемся с тенденцией к художественному «показу», а не сухому сообщению фактов, весьма характерной для развития сибирского летописания в XVII в. Общий церемониальный и этикетный тон речи Ермака, своеобразный казацкий ораторский «чин», перебивается «человеческой» интонацией самоиронии. Так достигается «реалистичность» монолога. Нельзя не отметить близость такого рода «реалистичности» и демократизации литературного процесса в XVII в. Хотя надо отметить, что Ермак преимущественно изображается как «идеальный» герой, отражающий свойственные своей среде нормы поведения.
Летописи, как правило, лишены критического содержания. В какой-то степени этот недостаток восполняет так называемый Кунгурский летописец – образец демократического направления в рамках «сибирской школы» XVII в. Здесь образ Ермака еще не «канонизирован», сохраняет живой «казачий» колорит. Уместно в этой связи говорить и об элементах реалистичности в произведении.
Исследователи отмечают явное влияние казачьего фольклора. Важно, что события, предшествующие походу, совершенно не согласуются в тексте со «строгановской» версией о призвании казаков с Волги. Согласно Кунгурскому летописцу, Ермак «взимает (у Максима Строганова. – Б.Ч .) с пристрастием» снаряжение и продовольствие, «не вовсе в честь или взаймы, но убити хотеша и жита его разграбить, дом его и при нем живущих разорити в конец»: «И приступи к Максиму гызом. Максим же увещеваше их Богом и государем, что числом им запасов дати и о том прося у них кабалы: ''Егда возвратитеся, на ком те припасы по цене взятии, и кто отдаст точно и с лихвою''. Из них же войска паче всех Иван Колцев съ есаулы крикнуша: ''О мужик, не знаешь ли, ты и тепере мертв, возмем тя и ростреляем по клоку! Дай нам на росписку по именом на струги полартелно, 5000 по именном на всякого человека по 3 фунта пороху и свинцу и ружья, три полковые пушки, по 3 пуда муки ржаной, по пуду сухарей, по два пуда круп и толокна, по пуду соли и двум полоти, колико масла пудов, и знамена полковые с ыконами, всякому сту по знамени''» [Летописи сибирские, 1991, с. 252].
Эта картинка спора казаков со Строгановым внутренне конфликтна, интонации переданы так, словно слышишь самих участников похода Ермака. Об этом же свидетельствуют и другие подробности изложения по версии Кунгурского летописца. Исследователи в этом случае в один голос говорят об одном источнике – так называемых «устных летописях», которые появились задолго до начала сибирского официального летописания и широко бытовали среди первых «насельников» Сибири.
Другая «устная летопись» повлияла на «Описание Сибири» Никифора Венюко-ва, который побывал в Тобольске по дороге в Китай и обратно уже в конце XVII в. Здесь мы найдем «монологи» Ермака и Кучума, другие важные и уникальные подробности «сибирского взятия». Например, рассказ «о двух пушках Кучума»: «А в Тоболске граде у царя Кучюма были две пушки железные литые в четыре аршина длиною, а ядро 20 фунтов. И как с козаками бой был, и в то время велел царь ис тех пушек стрелять на Козаков, и пушки стрельбако «устные летописи» были, конечно, переработаны и Венюковымы не дали, и царь разгневался: повеле те ипуш-ки с высокия горы вниз в реку Иртиш ввергнути» [Летописи сибирские, 1991, с. 236].
Повторим, что говорить о «реализме» летописного жанра в русской литературе Сибири в современном и ко многому обязывающем смысле этого слова не представляется возможным. Речь может идти о реалистических тенденциях, «реалистичности» отдельных фрагментов и описаний. Тем более что в летописании фиксируются разные способы изображения действительности, подтверждающие «ансамблевый характер» повествования. Важно подчеркнуть, что в древней литературе средства изображения обычно приближены к теме изображаемого. Это значит, что возникшее по официальной инициативе сибирское летописание несло в себе нечто большее, чем простую задачу ответить потребностям любопытствующего читателя. Вполне возможно определить ее, вслед за Лихачевым, как историко-юридическую, т. е. закрепляющую важный этап освоения Сибири, политику Русского государства на восточной «украине».