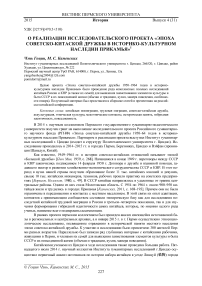О реализации исследовательского проекта "Эпоха советско-китаской дружбы в историко-культурном наследии Прикамья"
Автор: Гоцин Чэнь, Каменских М.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Академическая жизнь
Статья в выпуске: 4 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
Целью проекта «Эпоха советско-китайской дружбы 1950-1964 годов в историко-культурном наследии Прикамья» было проведение ряда комплексных полевых исследований китайцев России и КНР (а также их семей) для выявления заимствования элементов культуры и быта СССР в их повседневной жизни (обычаи и традиции, кухня, манера поведения, особенности говора). Полученный материал был представлен в сборнике статей и презентован на российско-китайской конференции.
Китайская иммиграция, трудовая миграция, советско-китайская дружба, аккультурация, этническая культура, межэтнические контакты, историческая память, гибридная идентичность, повседневность
Короткий адрес: https://sciup.org/147203892
IDR: 147203892 | УДК: [327:9](470.5+510)
Текст научной статьи О реализации исследовательского проекта "Эпоха советско-китаской дружбы в историко-культурном наследии Прикамья"
В 2014 г. научным коллективом Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета получен грант на выполнение исследовательского проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Эпоха советско-китайской дружбы 1950–64 годов в историкокультурном наследии Прикамья». Партнером в реализации проекта выступил Институт гуманитарных исследований г. Циндао (входит в структуру Политехнического университета г. Циндао). Исследование проводилось в 2014–2015 гг. в городах Перми, Березниках, Циндао и Вэйфан (провинция Шаньдун, Китай).
Как известно, 1949–1964 гг. в истории советско-китайских отношений называют эпохой «Большой дружбы» [ Пын Мин, 1959, с. 268]. Начавшиеся в конце 1949 г. переговоры между СССР и КНР закончились подписанием 14 февраля 1950 г. Договора о дружбе и взаимной помощи, задавшего вектор в развитии хозяйственно-экономического сотрудничества СССР и КНР. В этот период в вузах нашей страны получили образование более 11 тыс. китайских юношей и девушек, свыше 10 тыс. китайских инженеров, техников, рабочих прошли практику на советских предприятиях [ Борисов, Колосков, 1980, с. 49]. В СССР китайцы направлялись в удаленные от границ центральные районы. Одним из них стала Молотовская область. С 1954 по 1964 г. около 900–950 китайцев жили и трудились в городах Прикамья [ Каменских, 2011, с. 168–193]. Причем они не были ограничены в передвижении и контактах с местным населением. В этой связи их опыт адаптации, контактов с принимающим сообществом составили эмпирическую базу как для исследования последствий китайской трудовой миграции в России в третьем–четвертом поколении, так и для изучения формирования гибридной идентичности самих китайцев, которые, по мнению целого ряда ученых, наименее всего подвержены ассимиляции.
В рамках проекта пермским коллективом был проведен анализ имеющейся источниковой базы в региональных и центральных архивах, а в январе 2015 г. в г. Перми осуществлено этносоцио-логическое исследование, посвященное отражению в исторической памяти местного населения эпохи советско-китайской дружбы. К участию в исследовании было привлечено 300 жителей Перми разных возрастов. Параллельно был записан ряд глубинных интервью с китайскими рабочими, живущими в Перми, и членами их семей для выявления заимствования элементов культуры и быта СССР в их повседневной жизни (обычаи и традиции, кухня, манера поведения).
Китайскими учеными из Циндао в ходе исследования также проведена большая работа. Пятнадцатого июля 2014 г. научный коллектив Института гуманитарных исследований г.Циндао осуществил первичный анализ источников по истории набора китайцев в уезде Линцуй ( 临朐 ) города
Вэйфан ( 潍坊 ) – города-спутника Циндао – для отправки в г. Молотов. Изучены материалы, касающиеся оргнабора китайской молодежи для участия в «социалистическом строительстве» ( 社会主义建设 ) в СССР. Выявленные документы позволили определить социально-культурный облик и условия отбора, предъявляемые к китайцам, желавшим поехать в СССР. Документы содержат, в частности, именные списки, данные о семейном положении, родовые звания ( 属名 ), сведения о физическом состоянии претендентов. Еще одна экспедиция в Вэйфан была проведена 27– 29 ноября 2014 г. В рамках ее организовано несколько встреч с ныне живущими китайцами, которые работали в г. Молотове, а также с членами их семей. Всего было записано шесть интервью с рабочими Чэнь Чжичжун ( 陈志忠 ), Лю Шигун ( 吕世功 ), Су Юйчжу ( 苏玉著 ), Чжао Гуанюй ( 赵光玉 ), Тянь Фасин ( 田发兴 ) и Гао Жуйчжао ( 高瑞兆 ).
Комплексное исследование, проведенное в Пермском крае и провинции Шаньдун, позволило в деталях реконструировать процесс мобилизации китайских рабочих в КНР, их жизнь и работу в СССР.
Из китайских источников удалось выяснить, что в начале 1955 г. Государственный совет Китая созвал совещание для обсуждения вопроса об «отправлении китайских рабочих для участия в строительстве коммунизма в Советском Союзе», где обсуждались конкретные вопросы отправки работников за рубеж. Совещание постановило, что рабочие будут набираться из провинций Хэбэй, Шаньдун и Хэнань. В СССР организация работ по набору китайских рабочих на территории КНР и направление их на стройки и предприятия СССР были возложены на Главное управление трудовых резервов при Совете министров СССР. Для этого при ведомстве было создано Управление по набору китайских рабочих. Была образована и Советско-китайская комиссия по набору китайских рабочих, имеющая местопребывание попеременно в Москве и Пекине. Она занималась собственно наймом и организацией перевозки китайцев [ Ян Шушэн , 2015, с. 105].
Восьмого июня 1956 г. Государственный совет Китая обратился к народному правительству провинции Шаньдун с тем, чтобы было набрано 600 молодых мужчин для участия в строительстве коммунизма в Советском Союзе. После получения уведомления провинциальное правительство изучало этот вопрос с представительством специально уполномоченного района Чанвэй (нынешняя мэрия города Вэйфан провинции Шаньдун) и Окружным партийным комитетом (Вэйфанская комиссия партийного комитета коммунистической партии Китая). В результате было решено, что по 300 человек молодых людей из уездов Иду (нынешний уезд Цинчжоу провинции Шаньдун) и Линьцюй (уезд провинции Шаньдун) направят в Молотовскую область.
В соответствии с требованиями в уезде Линьцуй определили, что для отправки в СССР нужны «молодые и крепкие мужчины в возрасте 20–30 лет, выносливые и трудолюбивые, работящие, умеющие писать иероглифы, не имеющие проблем с происхождением» [ Гу Цзикунь , 2013, с. 5]. Известные или подозреваемые в контрреволюционной деятельности считались несоответствующими стандартам. Приоритет в отправке на работу в СССР имели также демобилизованные солдаты, члены партии и союза молодежи. Принимались во внимание национальные особенности и привычки, было решено временно не набирать представителей национальных меньшинств. Позже в уезде Линьцуй был создан специальный комитет по делам организованного набора рабочих для отправки в Советский Союз. Кроме того, была учреждена должность, равная по компетенции должности начальника уезда. Функция занимающего ее заключалась в оказании помощи предприятиям СССР в вопросах руководства китайскими рабочими и организации их образования.
Основным способом мобилизации стала пропаганда, целью которой было убедить молодых людей принять участие не только в строительстве, но и в социалистическом строительстве в СССР. В результате анализа методов пропаганды было решено отказаться пропагандировать только большое вознаграждение и возможности технической учебы в СССР. Обходились стороной холодный климат Советского Союза, удаленность от дома, различие в культуре двух стран и другие трудности.
Чтобы обеспечить идеологическое воспитание трудящихся и содействовать их адаптации к жизни в СССР, после утверждения списка кандидатов были приглашены специалисты из уезда, для чтения им лекций. Рабочие узнали, какие отношения существуют между Китаем и Советским Союзом, в чем интернациональное значение участия в этой работе, какому договору они должны следо- вать. Результаты пропаганды отражены в материалах полевых интервью с китайцами, живущими в Перми и Циндао. Судя по ним, линьцуйцы имели высокую мотивацию к участию в работе в СССР. В этом плане интересны представления китайцев об СССР до приезда в страну. Мын Сянлин о Советском Союзе узнал в школе: «Учитель… говорил, что там – старший брат. Вот учитель говорил, что старший брат не так, как мы живет. Я удивился, "а как?", он говорит (я хорошо помню) у Старшего брата в магазинах продавца нету. Я говорю "как нету? ", ведь если человек в магазин зайдет, товар возьмет, рассчитаться ведь надо, правильно? Он говорит, что Старший брат честный. Он возьмет товар, на товаре есть цена. И все. Около кассы там есть место и деньги положишь, сдачу возьмет и уходит. Я спрашиваю "как так, ведь можно сдачу меньше положить и больше взять? ". Учитель ответил "Старший брат не как мы, мы, которые нечестные". Вот об этом у меня на всю жизнь след остался» (Мын Сянлин, 2007). Во время обучения Мын Сянлин носил значок с символикой советско-китайской дружбы. Свое решение ехать в СССР он помнит хорошо: «В 1952 году школу закончил, в 1953-м я уже в армию пошел… В 1956 г. я вернулся из армии, нам говорят, кто желает уезжать в Советский Союз помогать старшему брату строить коммунизм. Я думаю – хорошо. Отец говорил, что русские водку пьют очень хорошо, если пьяный будет, то стукнет. А так, говорит, хорошо – не обидит. А еще говорит там холодно, ну он же знает. А мать мне говорит и сестра, что там замерзнешь. Я говорю, поеду и все» (Мын Сянлин, 2007).
Чжан Ляндын, бывший еще в Китае комсомольцем, рассказал, что за него и других комсомольцев решение принимала местная комсомольская организация. При этом он отметил, что ехать все хотели добровольно: «Тогда считалось, что Советский Союз – брат. Все молодые хотели сюда» (Чжан Ляндын, 2014). К моменту поездки в СССР ему исполнилось 18 лет и вместо армии он, как и многие, мечтал поехать в СССР.
В ходе интервью в Циндао в ноябре 2014 г. «советские рабочие» ( 苏工人 ) показывали вещи, привезенные из СССР, рассказывали о том, какие заимствованные элементы культурной жизни СССР они сохраняют в своем быту. Так, рабочий Гао Жуйчжао показал неношеный рабочий бушлат, сшитый на фабрике «Пермодежда» в 1956 г. [ Лю Пэн , 2015, с. 49–52]. Было очевидно, что жизнь и работа в СССР были престижны для китайцев и во многом влияли на повышение их социального статуса. Все китайцы могут представиться по-русски, назвать улицу и адрес, по которому они проживали в г. Молотове.
Между тем в повседневной жизни китайцев элементы «советской культуры» практически не отражены. Это связано с тем, что многие поведенческие и ценностные установки (упорный труд, приоритет общественных интересов над личными, гордость за пролетарское происхождение и т.д.) были характерны и для первых десятилетий существования коммунистического Китая. Китайские рабочие не переняли кулинарные традиции, однако в интервью указывали, что не имеют возможности найти в Китае соленую рыбу и черный хлеб, к которому привыкли в СССР. Кроме того, они отмечали изменение отношения рабочих к личной гигиене (мытье рук, бритье, стирка одежды), которое сформировалось у них в годы жизни в СССР. После возвращения они убеждали членов своих семей доверять «западной» медицине при лечении простейших заболеваний.
После проверок Народным комитетом деревень и отбора рабочих для поездки были организованы медицинские осмотры. Народный комитет уезда Линьцюй открыл девять пунктов для проверки физического состояния этих людей. Управление здравоохранения провинции Шаньдун обеспечило пункты медицинским персоналом. Если хотя бы один медицинский показатель человека не отвечал требованиям, он не мог быть отправлен в Советсикй Союз.
Как показывают воспоминания, на работу в СССР попадали только избранные. Бывший рабочий «Молотовстроя» Вэй Сибин считал, что набирать «самых лучших» дали указание деревенским председателям. Так, якобы была установка набрать из его провинции (Шаньдун) тысячу человек: «С провинции людей дня три собирали. Я сутки ждал пока всех соберут». По его словам, «отправляли самых лучших, из простых семей… чтоб были такие люди, надежные» ( Вэй С. П. , Вэй Сибин , 2007). Согласно Чжан Сифу, из 6 тысяч шаньдунских китайцев, желающих поехать в СССР, взяли только 300» ( Чжан Сифу, Норина Л. Г., 2007). Очевидно, что китайская молодежь в тот период находилась под влиянием пропаганды, представляя СССР как государство «благоденствия». Попадая из бедного, разоренного многолетней войной Китая в социально более развитый СССР, они находили преимущества социалистического строя, поэтому СССР, его жители остаются одними из наиболее ярких и позитивных воспоминаний.
Обнаруженные в архивах уезда Линцуй провинции Шаньдун данные об отборе рабочих для поездки в г. Молотов представлены в таблице.
Социальные характеристики рабочих, направляемых в Советский Союз
|
Характеристика |
Число рабочих |
|
Происхождение |
|
|
бедняк |
205 |
|
середняк |
95 |
|
Социальный статус |
|
|
крестьянин |
292 |
|
учащийся |
3 |
|
военный |
5 |
|
Образование |
|
|
средняя школа |
- |
|
начальная школа 2-й ступени |
76 |
|
начальная школа 1-й ступени |
105 |
|
грамотный |
79 |
|
неграмотный |
40 |
Большинство китайских рабочих были выходцами из бедняцких крестьянских семей и имели начальное трехлетнее образование, 13% не умели писать, среднее девятилетнее образование не получил ни один человек (Архив в уезде Линцуй, провинция Шаньдун, КНР. Номер папки 15–1–6)3.
Триста линьцуйских рабочих приехали в г. Молотов 5 сентября 1956 г. Всего же к концу 1956 г. в Молотове проживало 597 китайцев. Китайцы работали в городах Молотове и Березниках до 1964 г., когда после охлаждения отношений между СССР и КНР они были вынуждены вернуться на родину.
В ходе социологического исследования интересно было отметить тот факт, что разные поколения пермяков по-разному воспринимают и эпоху советско-китайской дружбы, и советско-китайские отношения. Люди старшего возраста (старше 70 лет), которые росли в период советско-китайской дружбы, позитивно относятся к китайцам и приводят много примеров из личной жизни. Для людей 40–70 лет советско-китайская дружба связана с периодом временного политически выгодного «потепления» в отношениях двух крупных конкурирующих держав. Пермяки этого возраста воспринимают Китай и китайцев с осторожностью. Поскольку в 1960–1980-е гг. о советско-китайской дружбе говорить было не принято, а после 1990-х гг. данная тема практически была забыта, для людей в возрасте до 30 лет советско-китайская дружба – практически неизвестный эпизод. При этом необходимо отметить, что в условиях активного развития партнерских отношений между Россией и Китаем, данная страница истории России и Прикамья представляется молодым интересной, требующей актуализации и переосмысления [ Чепкасов, 2015, с. 74].
Итоги указанного исследования были подведены в 2015 г. на международной научнопрактической конференции «Китайские рабочие в СССР: опыт антропологического осмысления», посвященной изучению феномена советско-китайской дружбы и ее социальных последствий в России и КНР. Делегацию китайских ученых возглавлял директор Института гуманитарных исследований Политехнического университета г. Циндао доктор Чэнь Гоцин. На конференции был представлен сборник «Китайские рабочие в СССР: опыт антропологического осмысления: материалы международной научно-практической конференции» (Пермь, 14–15 мая 2015 г.). В сборник вошли статьи 11 авторов из Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Узбекистана и Китая. Он издан на русском и китайском языках. В приложение к нему вошли фотографии по истории советско-китайской дружбы в г. Молотове в 1950-е гг.
Исследование позволило сделать ряд выводов. Период советско-китайской дружбы, определяемый 1950–1960-ми гг., может иметь научный интерес как этап внешнеполитических отношений России и Китая и может быть переосмыслен с позиций антропологии. Сегодня китайская эмиграция привлекает внимание ученых как в России, так и во всем мире. А материалы о жизни и работе китайцев в СССР могут составить важную эмпирическую базу, позволяющую проследить процессы формирования и эволюции гибридной идентичности китайцев в эмиграционный и постэмиграционный периоды. Исследование подтвердило тезис о слабых механизмах интеграции китайцев в иноэтнокультурную среду, об их замкнутости по отношению к культурным нормам принимающего сообщества. Однако очевидно, что, проживая за пределами исторической родины, они с большим интересом наблюдали и перенимали отдельные элементы культуры, в том числе поведенческие установки. После возвращения на родину (а это неизбежное следствие практически во всех случаях эмиграции китайцев) они демонстрировали и воспроизводили зарубежные заимствования в повседневном быту, что в итоге влияло на повышение социального статуса. Отдельные поведенческие и культурные установки перенимали даже члены семей возвратившихся. Следовательно, китайцы-мигранты не должны восприниматься как неспособные или нежелающие перенимать культуру местного сообщества мигранты. Для подтверждения данной гипотезы еще требуются отдельные исследования, но она может стать частью дискурса, возникшего в процессе анализа китайской эмиграции в современном мире.
Что касается местного российского сообщества, то, очевидно, сегодня существуют важные предпосылки дополнительного исследования и переосмысления феномена советско-китайской дружбы в середине ХХ в. Большое количество сохранившихся документов, актуализировавшийся общественный дискурс могут способствовать появлениию ряда исторических работ по данной тематике.
Таким образом, проведенное в течение двух лет исследование может считаться международным, его итоги имеют большое значение как для пермской, так и для китайской исторической науки, в частности, для изучения истории советско-китайских отношений.
Список литературы О реализации исследовательского проекта "Эпоха советско-китаской дружбы в историко-культурном наследии Прикамья"
- Борисов О. Б., Колосков Б. Т. Советско-китайские отношения. М, 1980
- Изучение истории Коммунистической партии Китая (古继坤.中国工人“赴苏援建”问题的历史考察 (1954-1963). 中共党史研究). Пекин, 2013.
- Каменских М.С. Китайцы на Среднем Урале в конце XIX -начале XXI в. СПб., 2011
- Лю Пэн. Китайские рабочие СССР: история жизни после возвращения на родину//Китайские рабочие в СССР: опыт антропологического осмысления: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 14-15 мая 2015 г.). Пермь, 2015.
- Пын Мин. История китайско-советской дружбы. М., 1959
- Чепкасов К.А. Китайские рабочие г. Молотова в памяти местного населения (по материалам этносоциологического исследования)//Китайские рабочие в СССР: опыт антропологического осмысления: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 14-15 мая 2015 г.). Пермь, 2015.
- Ян Шушэн. Механизм социальной мобилизации китайских рабочих в 1950-е гг.//Китайские рабочие в СССР: опыт антропологического осмысления: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 14-15 мая 2015 г.). Пермь, 2015.
- Гу Цзикунь. Исследование по истории набора в КНР рабочих для участия в коммунистическом строительстве в СССР (1954-1963 гг.)