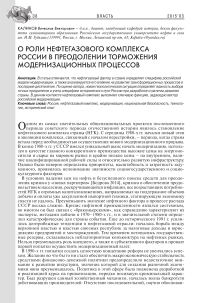О роли нефтегазового комплекса России в преодолении торможения модернизационных процессов
Автор: Калинов Вячеслав Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 3, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечается, что нефтегазовый фактор в стране определяет специфику российской модели модернизации, а также анализируется его влияние на развитие трансформационных процессов в последние десятилетия. По оценке автора, новая геополитическая ситуация определяет важность выбора точных приоритетов и учета специфики исторического пути России при разработке стратегии развития страны. В данном контексте нефтегазовый комплекс выполняет ключевую функцию, задающую вектор российской модернизации.
Россия, нефтегазовый комплекс, модернизация, национальная безопасность, технологии, исторический опыт
Короткий адрес: https://sciup.org/170167857
IDR: 170167857
Текст научной статьи О роли нефтегазового комплекса России в преодолении торможения модернизационных процессов
О дним из самых значительных общенациональных проектов послевоенного периода советского периода отечественной истории явилось становление нефтегазового комплекса страны (НГК). С середины 1980-х гг. начался новый этап в эволюции комплекса, связанный с началом перестройки, – периода, когда страна встала перед необходимостью осуществления нового модернизационного прорыва. В конце 1980-х гг. у СССР имелся уникальный шанс начать модернизацию, используя в качестве главного конкурентного преимущества высокие цены на энергоносители и сырье на мировом рынке и крайне низкие цены – на внутреннем, наличие квалифицированной рабочей силы и относительно развитую инфраструктуру. Однако были неверно определены приоритеты, масштабность и затратность задуманного, проявилось непонимание значимости социогосударственного и социокультурного факторов.
В условиях падения цен на нефть и безуспешного поиска средств для преодоления кризиса у «новых партнеров» [Бодрова 2014], кризиса в обеспечении продовольствием населения, раскручивающейся инфляции, все возрастающих потребностей НГК в огромных капиталовложениях, направляемых на поддержание объемов добычи и оплаты уже закупленной импортной техники, стагнирующую экономику спасти не удалось. Преуменьшить значение нефтяного фактора в процессе распада СССР весьма сложно. Кризис нефтяной промышленности являлся системным, во многом он был связан с «браконьерскими», как справедливо характеризуют их эксперты, методами добычи в 1970–1980-х гг., и в значительной степени определил катастрофические для страны события. Еще до исторического 1991 г. усилились центробежные тенденции в нефтегазовой отрасли: началась борьба между верховной властью и властью союзных республик за налоговые доходы и юрисдикцию предприятий и месторождений. Тем временем истощались государственные резервы, складывалась неблагоприятная конъюнктура на нефтяных рынках. Нельзя преуменьшать роль внешнего, а также и субъективного факторов в провале первой попытки осуществить модернизационный взлет.
В 1990-х гг. попытки создать целостную концепцию реформ не увенчались успехом. Желание во что бы то ни стало обеспечить макроэкономическую стабильность средствами финансово-денежной политики предопределило недостаточное внимание к развитию индустрии, значение которой для создания рыночной экономики явно преуменьшалось. Политика в этой сфере была подменена разработкой и реализацией курса на приватизацию, нередко носившую криминальный характер. Был разрушен единый хозяйственный механизм, началась волна банкротств действовавших производителей. Отсутствие последовательной, научно обоснован- ной, системной политики обусловило деиндустриализацию страны, утрату важных отраслей промышленности [Бодрова и др. 2008; Бодрова и др. 2011; Бодрова 2008]. Коллизии и метаморфозы исторического опыта российских и мировых модернизаций не были учтены [Васильев 2011; 2012a; 2012б].
Эволюция нефтегазового комплекса РФ в 1990-х гг., как и государственная политика в этой сфере, носила крайне противоречивый характер. Две составляющие НГК – нефтяная и газовая – в 1990-х гг. пошли по разным путям развития. Значимую роль в эволюции газовой отрасли сыграло создание конце в 1980-х гг. на основе Министерства газовой промышленности СССР государственного концерна «Газпром» во главе с В.С. Черномырдиным, что позволило сохранить газовую отрасль как самостоятельную систему при доминирующей роли государства. Этот выбор, по оценкам ряда исследователей, в 1990-х гг. обеспечил не только жизнедеятельность отрасли, но во многом способствовал предотвращению развития кризисной социально-экономической ситуации в катастрофическую, а в дальнейшем способствовал более стабильному развитию страны. По оценкам других экспертов, газовая отрасль, в отличие от нефтяной, лишь формально оставалась под контролем государства и сохраняла прежнюю монопольную структуру. Однако напомним о роли «Газпрома» в стабилизации социально-экономической ситуации в 1990-х гг. – именно он обеспечил надежное газоснабжение потребителей внутри страны, поставки газа по межгосударственным и межправительственным соглашениям за пределы России. Сохранялись низкие цены на газ для внутреннего рынка, фактически предусматривалась возможность не платить за него. Это действительно позволило уцелеть тысячам производственных предприятий и сохранить тепло в домах десятков миллионов россиян, но одновременно обусловило инвестиционный дефицит в газовой отрасли, который был преодолен только в середине нулевых годов. По нашему мнению, жесткая интеграция отрасли в то время сыграла положительную роль.
Выход из кризисной ситуации в нефтяной отрасли виделся в скорейшей ее реструктуризации, предполагавшей создание на базе Министерства нефтяной промышленности, а затем и его правопреемницы - корпорации «Роснефтегаз» частных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Было установлено три вида предприятий: предприятия, вовлеченные в производство, переработку и распределение; интегрированные компании; транспортные компании. На первом этапе значительная доля в акционерном пакете принадлежала государству. С 1995 г. проводились залоговые аукционы с последующим выкупом контрольных пакетов акций. Согласно данным, приведенным в презентации к выступлению И. Сечина на Петербургском экономическом форуме в мае 2014 г., в «залоговых аукционах» середины и второй половины 1990-х гг. почти вся нефтяная отрасль была приватизирована за примерно 5,24 млрд долл. 1 В 1997 г. доля государственной собственности в нефтяной отрасли снизилась до 10,6% 2 . Однако положение в отрасли оставалось сложным. Директивное слияние различных предприятий нефтяной отрасли, сохранивших все свои проблемы, в новые организационные структуры не могло эти проблемы разрешить. Во многом судьба нефтяных компаний определялась «политическим весом» и квалификацией возглавивших их фигур – в основном крупных функционеров профильных структур бывшего СССР. Особым образом шло формирование собственности так называемых региональных компаний, прежде всего ОАО «Татнефть» и ОАО «Башнефть».
Согласно заключению экспертов Государственной думы, указ Президента РФ от 31.08.1995 N 889 фактически ликвидировал установленный режим государственного регулирования нефтяного комплекса, закрепив за Госкомимуществом России право согласовывать c залогодержателем некоторые вопросы, связанные в основном с внесением изменений в учредительные документы предприятий, структурными преобразованиями и утверждением их годовых отчетов. Участие Минтопэнерго России в этом процессе практически было исключено. Между тем руководство министерства выступило с предупреждением, что поспешность в проведении залоговых аукционов и продаж акций нефтяных компаний без предварительной предпродажной подготовки, предполагающей проведение комплекса мер по укреплению финансового положения, завершения консолидации пакетов акций в уставном капитале и других мероприятий, неминуемо приведет к недооценке акций и не принесет государству ожидаемых доходов. Экспертная оценка капитализации нефтяных компаний на период, предшествующий началу проведения залоговых аукционов, представленная Минтопэнерго России, свидетельствовала о том, что упущенная выгода из-за недооценки акций нефтяных компаний составит 95,7–423,2 млрд долл. (при оценке в соответствии с общепринятыми методиками – 1–5 долл. за баррель разведанных запасов)1. К 1999 г. в федеральной собственности оказались закреплены пакеты акций только 6 из 18 действующих нефтяных компаний. По оценке экспертов, результаты работы компаний, закрепленных в федеральной собственности, пакеты которых были проданы, свидетельствовали, что производственно-хозяйственная деятельность обществ, за исключением ОАО «Сургутнефтегаз», по целому ряду количественных и качественных показателей ухудшилась по сравнению с периодом начала их приватизации, проданные пакеты акций не обеспечили существенный приток инвестиций в отрасль, а государство потеряло возможность эффективного управления посредством участия в органах управления указанных акционерных обществ.
До сих пор оценки процесса реструктуризации нефтяной отрасли весьма неоднозначны, подчас диаметрально противоположны. Главной причиной этих преобразований, на наш взгляд, являлось развитие НГК в условиях нарастающего экономического кризиса. Подобным образом предполагалось обеспечить управляемость при минимизации бюджетных средств, поступление налогов, привлечение инвестиций, конкурентоспособность на мировых рынках. Между тем значительное падение добычи нефти свидетельствовало о тяжелейшем упадке. Принятые меры позволяли в лучшем случае выживать, но не развиваться. Эксперты фиксировали в НГК наличие таких основных проблем, как высокие издержки производства, обусловленные макроэкономической политикой властей, ростом налоговой составляющей в издержках, задолженностями по налогам, выплатам во внебюджетные фонды, по заработной плате; колоссальные неплатежи основных потребителей продукции, являющиеся как следствием монетарной политики государства, так и «выдавливанием» отечественного производителя с внутреннего рынка; дефицит инвестиционных ресурсов. Кроме того, начиная с 1994 г. добыча не компенсировалась приростом запасов нефти, сокращался профилактический и капитальный ремонт скважин, систем нефтепроводов, нефтегазосбора, оборудования. Выросло число бездействующих скважин. Повышалась обводненность продукции из-за недопустимо высоких темпов разработки наиболее крупных и высокоэффективных месторождений. Недостаточным было финансирование геологоразведочных работ, недопустимо высоким стал уровень изношенности фондов. Сложившаяся система лицензирования пользования недрами при освоении углеводородных ресурсов обусловила отсутствие эксклюзивных прав у обладателей лицензий на геологическое изучение недр, на разработку открытого месторождения. Во второй половине 1990-х гг. значительное число лицензий с правом добычи было выдано предприятиям, которые не имели достаточных средств для поиска и освоения залежей нефти и газа. Объемы переработки (из-за сокращения поставок нефти на 8,10%) падали. Несмотря на то что на территории России действовали 9 из 40 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира, их технологический уровень оставался низким. Возраст большинства заводов экспертами оценивался как критический. Создалась реальная угроза утраты стабилизирующей роли топливно-энергетического комплекса в экономике страны и превращения его в источник дезинтеграционных процессов. Неплатежеспособность предприятий НГК создавала для многих из них угрозу объявления несостоятельными и применения установленных проце- дур санации и банкротства. В 1997 г. из нефтеносных пластов извлекалось не более 25–40% сырья1. Причинами такого положения стали общий кризис экономики страны, снижающийся спрос, ухудшение сырьевой базы, длительное поддержание низких цен на энергоносители, жесткая налоговая система (налоговая составляющая в этот период в цене нефти достигала 50–60%, в нефтепродуктах - до 75%), отсутствие достаточных инвестиций, рост текущих кредитных задолженностей, проблема неплатежей. Огромное влияние на функционирование отрасли оказывал мировой нефтяной рынок, процессы глобализации.
Сотрудничество российской нефтяной отрасли с иностранными корпорациями способствовало решению острых финансовых проблем на начальном этапе становления рыночной экономики. Неоднозначно оцениваемый закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г., в основе которого лежала практика пользования недрами на основе концессий, давал весьма ощутимые льготы инвесторам. Проверка, проведенная Счетной палатой РФ, позволила заключить, что закон «не обеспечивает гарантий развитию национальной промышленности» 2 .
Однако на фоне структурного общеэкономического спада в стране положение с нефтедобычей выглядело относительно благополучно, тем более что в экспортном направлении наблюдался неуклонный рост. В 1990-х гг. сложились правовые и финансовые механизмы, призванные обеспечивать адекватное требованиям времени развитие нефтедобывающей промышленности, транспортировку и переработку нефти и нефтепродуктов, их реализацию на внутреннем и внешнем рынках. Несмотря на все трудности, была сохранена система отраслевой и вузовской науки, где осуществлялись разработки, направленные на повышение рентабельности производства НГК, сохранилась система подготовки специалистов для отрасли.
1999 г. явился переломным – повышение цен на мировом рынке обусловило рост производства в НГК. К 2003 г. Россия стала крупнейшим экспортером топливноэнергетических ресурсов. Благодаря этому начался восстановительный рост экономики. Наиболее значительно выросла рентабельность производства в нефтедобывающей и в нефтеперерабатывающей промышленности, которая за этот период составила соответственно 66,2% и 41,6% 3 . Этому в существенной мере способствовали благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, рост объемов производства, увеличение рублевого эквивалента выручки от поставки на экспорт. Однако внешние позитивные условия функционирования предприятий НГК лишь сгладили накопившиеся проблемы, но не устранили их.
С нашей точки зрения, главным стратегическим просчетом государственной экономической политики последних десятилетий являлась ставка на превращение валютных доходов в золотовалютные резервы, а не на инвестирование доходов в модернизацию топливно-энергетического комплекса, развитие нефтяного машиностроения, нефтепереработки, нефтехимии, нефтеразведки, нефтяной науки и нефтяных технологий, в реализацию предлагаемых проектов «новой индустриализации». Экономическая ситуация, сложившаяся в стране в 2014 г., доказывает это со всей очевидностью. Между тем нефтегазовый комплекс мог бы в прошедшие десятилетия выступить в качестве лидера и локомотива модернизационных процессов в целом.
Список литературы О роли нефтегазового комплекса России в преодолении торможения модернизационных процессов
- Бодрова Е.В. Определяющий фактор повышения эффективности гуманитарной подготовки в высшей школе -профессиональная ориентация//Власть. 2008. № 6. С. 55-60
- Бодрова Е.В. О роли внешнего фактора в контексте модернизации//Власть. 2014. № 8. С. 9-14
- Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В. Модернизация инженерного образования как ключевой фактор формирования национальной инновационной системы: Монография. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2011. -340 с
- Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Мешкова А.В. Государственная политика в Российской Федерации в области культуры и образования на рубеже ХХ-ХХI вв. М.: Изд-во МосГУ, 2008. -202 с
- Васильев Ю.А. Очень странный российский капитализм//Власть. 2011. № 9. С. 4-6
- Васильев Ю.А. Взгляд на эпометаморфоз сквозь призму всемирно-исторической точки зрения//Век глобализации. 2012. № 1. С. 46-57
- Васильев Ю.А. О факторах риска в условиях капиталистической модернизации в России: цикличность кризисов//Власть. 2012. № 10. С. 18-22
- Доступ: http://www.rosneft.ru/printable/news/today/24052014/(проверено 24.05.2014).
- Архив Государственной думы ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3760 Л. 3. 3Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5601. Л. 6-7.
- Архив ГД ФС Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3740. Л. 99.
- Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100 Оп. 14. Д. 3768. Л. 43.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-10240. Оп. 1. Д. 2917. Л. 89, 105(об).