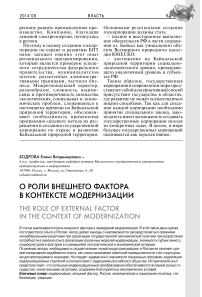О роли внешнего фактора в контексте модернизации
Автор: Бодрова Елена Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 8, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется роль внешнего фактора в проведении модернизации. В этой связи дана оценка постсоветского опыта в России. Автор делает выводы о невозможности руководствоваться прежними неолиберальными рецептами при реализации государственной экономической политики при возрастании потребности в анализе опыта реализации различных моделей модернизации, значимости субъективного, социокультурного факторов в сложившейся геополитической и экономической ситуации. По мнению автора, необходимость осуществления «новой индустриализации» в России не означает прямое копирование зарубежного опыта, как и восстановление советской промышленности с ее структурными диспропорциями и изъянами. Но следует задуматься о значимости социальных программ, корреляции модернизационных стратегий в соответствии с традициями российского общества. Исторический опыт свидетельствует, что успешные модернизационные преобразования обеспечиваются активной ролью государства, значительными затратами, созданием благоприятных экономических условий.
Модернизация, внешний фактор, Россия, экономическая и социальная политика, глобализация, традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/170167592
IDR: 170167592
Текст научной статьи О роли внешнего фактора в контексте модернизации
В нашей стране позднеиндустриальная стадия российской модернизации была в основном завершена еще в условиях СССР. Экономика при эффективном управлении могла избежать крупномасштабного кризиса, а страна – распада. Основными причинами катастрофических событий стали: безрезультатность модернизационных усилий, инициируемых сверху, непонимание исчерпанности прежней индустриальной модели развития, чрезмерная затратность выбранного варианта, господство технократического подхода в экономике, неточно выбранные приоритеты. Правомерным будет утверждение, что советское руководство не использовало шанс выбора более точной стратегии. В условиях усиливающегося экономического кризиса центральное руководство, рассчитывая на обещанную ведущими западными странами помощь, потеряло время. Этот вывод подтверждает анализ ряда судьбоносных решений. 2 июня 1991 г. на совещании у президента СССР М.С. Горбачева по вопросам экономики министр финансов В.С. Павлов охарактеризовал экономическую ситуацию как «отчаянную»: объем внешней торговли за полугодие снизился на 30%. Особенно острыми оказались продовольственная, энергетическая и финансовые проблемы. Лидер страны видел единственный выход – переход к рыночным отношениям, т.к. в ином случае невозможно было рассчитывать на вхождение в мировое хозяйство и поддержку «западных собеседников» [В Политбюро ЦК КПСС… 2008: 701].
Однако Запад с оказанием помощи явно не торопился. 11 июля 1991 г. в личном послании президента СССР М.С. Горбачева главам государств – участников встречи «семерки» в Лондоне говорилось о значительных достижениях, выполнении обязательств: о «серьезном повороте от конфронтации к взаимопониманию», конце «холодной» войны, «практическом начале процесса разоружения». Но в области экономических отношений заметных перемен не произошло. Не оправдались ожидания и надежды советского руководства на создание нового типа экономического взаимодействия с Западом, в процессе которого советская экономика с ее огромным производственным, научно-техническим и кадровым потенциалом, с богатейшими природными ресурсами и колоссальным внутренним рынком могла бы органично интегрироваться в мировое хозяйство [В Политбюро ЦК КПСС… 2008: 709711].
Архивные документы свидетельствуют о том, что руководство страны тщетно пыталось изыскать средства, рассчитывая на реализацию совершенно нереальных проектов, ориентированных на западную помощь. Так, в июне 1991 г. в экспертном заключении Института США и Канады констатировалось, что доступ на международный рынок ссудных капиталов закрыт, расчеты привлечь в СССР иностранные капиталы на уровне 20–25 млрд долл. в год представлялись необоснованными, наращивание внешнего долга создало угрозу национальной безопасности. Расчеты на МВФ оказались беспочвенными, поскольку фонд не располагал крупными средствами, а СССР не был готов действовать по жестким рецептам проведения реформ1. В «обновлении» стратегии тогдашней российской власти определенную роль сыграл фонд «Культурная инициатива» Дж. Сороса, предложивший вариант перехода нашей страны к рынку по сценарию Сакса-Линтона [Карпухина, Грачев 1993]. Этот опыт использовался в Польше, Латинской Америке и был ориентирован не на поэтапную структурную перестройку экономики, сдерживание государством инфляции, а на стихийное формирование рыночного равновесия с очевидными последствиями в виде глубокого спада производства и массовой безработицы. Обещалось повышение национального дохода за 5 лет на 10–15% [Абалкин 1991: 157-158]. Между тем, об иллюзорности и пагубности рекомендаций и обещаний свидетельствует как реалии латиноамериканских стран, так и, к сожалению, опыт новейшей российской истории.
В 1991 г. наша страна стала членом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в 1992 г. вступила в Международный валютный фонд (МВФ) и присоединилась к группе Всемирного банка – Международному банку реконструкции и развития (МБРР). Экспертами МВФ были определены условия выделения помощи по линии фонда. В соответствии с ними Россия приступила к либерализации экономики форсированными темпами. Согласно данным Счетной палаты РФ, за период с 1992 по 2000 г. общий объем заимствований Российской Федерации у международных финансовых организаций составил 26,1 млрд долл., основная их часть (70%) являлась финансовыми кредитами МВФ. Объем заимствований у МБРР за эти годы составил 7,6 млрд долл., финансовые кредиты Всемирного банка – 4,6 млрд долл. Объем инвестиционных займов МБРР, предназначенных для финансирования реальной экономики, был равен 3,0 млрд долл, ЕБРР – 0,3 млрд долл. Вывод аудиторов удручает: «в наибольшем объеме осуществлялось освоение средств, связанных с оплатой консультационных услуг, а не компоненты проектов, предусматривающих поставки оборудования и технологий»2.
Общими условиями займов МБРР являлись: возврат основного долга в течение 17 лет при начале его возвращения (льготный период) через 5 лет равными платежами каждые полгода 3 . В структуре портфеля займов МБРР инвестиционные займы составляли 41%. Среди этих займов наибольший объем средств направлялся в сектор инфраструктуры и окружающей среды – 39% (1,82 млрд долл.), в энергетический сектор – 25% (1,16 млрд), в социальный – 16% (0,74 млрд), в финансовый сектор и на «реформу предприятий» – 14% (0,16 млрд долл). На долю сельского хозяйства и институционального развития приходилось соответственно 5% (0,24 млрд долл.) и 3% (0,16 млрд) 4 . Но основная часть подпроектов была направлена на такие цели, как кампании по информированию общественности о программе приватизации в России (6 млн долл.), проведение консультаций и исследований по проблемам приватизации (24,0 млн долл.) и пр. В частности, для пропаганды программы приватизации «Российский центр приватизации» заключил 12 мая 1995 г. контракт на общую сумму 2,9 млн долл. с редакцией газеты «Жизнь и кошелек» на подготовку бесплатного приложения к газете «Аргументы и факты». К моменту проверки Счетной палатой (ноябрь 1997 г.) эта издательская деятельность уже прекратилась 5 .
Еще в 1991 г. в нашей стране начала осуществляться программа Технического содействия странам Европейского союза – ТАСИС. В период с 1991 по 1999 г. из бюджета ТАСИС было выделено на безвозмезд- ной основе 2,048 млрд евро, при этом доля средств для финансирования через национальные программы составила 1,5 млрд евро. Начиная с 1991 г. было реализовано свыше 780 проектов в таких сферах, как ядерная безопасность, поддержка предприятий (в т.ч. приватизация – 308,7 млн евро), развитие людских ресурсов (подготовка и переподготовка кадров), социальная защита населения (296,7 млн евро). Однако основной объем средств фактически расходовался на оплату услуг экспертов и консультантов из самих стран – членов Европейского союза с выделением лишь малой доли бюджета ТАСИС на закупку оборудования или оплату услуг российских экспертов1.
Таким образом, в рамках проектов поддерживались институциональные преобразования, финансировались услуги и закупки оборудования для федеральных органов исполнительной власти, средства расходовались без увязки с мероприятиями по структурной перестройке экономики, для которых они предназначались. Не было обеспечено сокращение дефицита федерального бюджета, продолжалось снижение общего объема ВВП. Либерализация внешней торговли и цен без одновременного проведения денежной реформы ликвидировала дефицит товаров, но обесценила при этом трудовые сбережения, обусловила место России как сырьевого аутсайдера. Последствиями курса, не учитывающего специфические условия развития и национальные интересы России, стали криминальная форсированная приватизация, инфляция, спад производства и засилье импорта, развал научно-технического комплекса страны и ОПК, единой денежно-кредитной системы, снижение инвестиционной активности, кризис неплатежей, вынужденные внешние заимствования, резкое социальное расслоение, угроза национальной безопасности.
1998 г. стал серьезным испытанием для российской экономики. По состоянию на 1 июля 1998 г. внешний долг РФ достиг 130,5 млрд долл. Огромные суммы направлялись на платежи по обслуживанию внешнего долга: только за первое полугодие 1998 г. они составили 4,68 млрд долл. (72% к объему платежей 1997 г.)2. Для преодоления катастрофы были предприняты такие меры, как реализация государственных запасов драгоценных камней и драгоценных металлов (7 551,2 млн руб.)3.
Основными причинами глубокого кризиса стали принципиальные ошибки и серьезные недостатки в социальной и экономической политике, которые привели к разрушению экономического потенциала, сокращению объемов производства во всех секторах экономики России, обнищанию большинства населения, резкому сокращению продолжительности жизни граждан4. И мог ли быть иным результат в ситуации, когда производственные инвестиции с 1991 по 1998 г. сократились в 5 раз, выпуск продукции – в 2 раза, а экспорт продукции обрабатывающих отраслей снизился почти до нуля. Обвал финансовой системы в августе 1998 г. стал следствием наращивания государственного долга в форме финансовой пирамиды государственных краткосрочных обязательств, оттока капитала из страны, нестабильности и утраты доверия к власти. Для обслуживания государственного долга правительство РФ пошло на секвестирование расходов федерального бюджета, нарушая обязательства государства по финансированию социальной сферы, системы национальной безопасности, отвлекая финансовые ресурсы из реального сектора экономики. Но и позднее, выплачивая внешний долг, поддерживая во что бы ни стало финансовую стабильность, правительство лишило промышленность инвестиций. Были утрачены целые отрасли, уровень физического и морального износа основного капитала оказался беспрецедентным. Это явилось результатом отсутствия последовательной, научно обоснованной системной политики. Рост начала нулевых годов был обусловлен повышением мировых цен на сырье. Он явился лишь восстановительным фактором в отношении катастрофического спада – по многим показателям не удалось достичь позднесоветских показателей. К сожалению, сложившаяся в результате кризиса управления сырьевая модель отечественной экономики в очень значительной степени определяет алгоритм развития страны и в настоящее время [Бодрова и др. 2014]. Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. продемонстрировал хрупкость позитивных тенденций, сложившихся в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. При сохранении свободы трансграничного перемещения капиталов приток капитала сменился столь же массированным его оттоком. Государственная экономическая политика РФ в декабре 2013 г. характеризовалась как «точечная антикризисная… с ярко выраженным упором на поддержание социальной стабильности» [Россия на пути … 2013].
Полагаем, что в сложившейся весьма сложной геополитической и экономической ситуации как никогда ранее необходим всесторонний анализ достижений и просчетов реализации «догоняющей» модернизации во избежание рисков, характерных для подобной модели, проявившихся, в частности, в Латинской Америке, где неолиберальные реформы конца ХХ в. реализовывались в соответствии со сценарием, определяющим ее место как индустриальную полупериферию. Прямые аналогии невозможны: в отличие от России и других стран СНГ, там этот период характеризовался и достижениями, произошла лишь фрагментарная деиндустриализация. Впрочем, экономический рост сопровождался преимущественно заимствованием технологий, а с 1998 г. наблюдалось резкое замедление темпов, усиление коррупции, поляризация общества и его «полевение». «Левому повороту» способствовала возросшая в мировой экономике и политике в последнее время роль стран-гигантов: Китая, Индии и Бразилии [Красильщиков].
Предстоящая модернизация в России в условиях капиталистического развития должна учитывать исторические уроки. Сложившаяся глобальная капиталистическая система создает для России жесткие и далеко не всегда благоприятные правила игры. В условиях вхождения России в систему глобального капитализма резко возрастают новые риски и системные опасности, приходящие из-за рубежа [Васильев 2012: 18, 22].
Необходимость осуществления «новой индустриализации» в России не означает прямое копирование бразильского либо иного опыта, тем более восстановления советской промышленности с ее структурными диспропорциями и изъянами. Но следует задуматься о невозможности использования прежних рецептов, о значимости социальных программ, корреляции модернизационных стратегий в соответствии с традициями российского общества. Необходима модернизация инновационного характера, т.к. догоняющие модернизации ушли в прошлое: непонятно, кого, что и зачем догонять. Но без воли власти, как показывает исторический опыт, в России модернизации не происходили. Чтобы всерьез, а не на словах начинать модернизацию, необходимо ответить на ключевые вопросы: какая общественная модель должна быть построена в стране, каковы ее ценности, какова роль государства в данном процессе? Реальная модернизация должна основываться на принципе собственной идентичности, охватывающей все сферы жизни общества [Васильев 2011: 4, 5].
Исторический опыт свидетельствует, что успешные модернизационные преобразования обеспечиваются активной ролью государства, значительными затратами, созданием благоприятных экономических условий. Без индустриальной основы не имеет смысла заявлять о формировании национальной инновационной системы. Специфика и сложность стартовых условий в России требуют поэтапности при проведении модернизации, осуществления «новой индустриализации» и параллельно перехода к «экономике знаний», учета социокультурных особенностей, специфики экономической и политической систем .