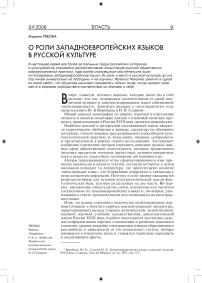О роли западноевропейских языков в русской культуре
Бесплатный доступ
В настоящее время все более актуальным среди российских историков и культурологов становится ретроспективное осмысление русской общественно-коммуникативной практики, куда волей сложившихся обстоятельств были интегрированы западноевропейские языки. Их роль и место в русской культуре до сих пор никем внимательно не обобщены и не изучены. Фрэнсис Фукуяма заметил в одной из своих работ, что общества начинают процветать только тогда, когда находят свое место в мировом сообществе в соответствии со знанием о себе.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164417
IDR: 170164417
Текст научной статьи О роли западноевропейских языков в русской культуре
в мире, пожалуй, немного народов, которые знали бы о себе меньше, чем мы, оторванные десятилетиями от своей подлинной истории и загипнотизированные идеей собственной «непознаваемости». Заметным вкладом в «долгожданную» тему является книга Ю. К Воробьева и И. В. Сединой1.
Общий замысел монографии по широте тематики и стремлению осознать и оценить некоторые важные в языковой политике процессы, происходившие в Р-оссии XVIII века, является новаторским.
Наиболее ценной и интересной составляющей книги являются теоретические обобщения и выводы, сделанные на обширном материале, отчасти впервые рассматриваемом в российской культурологической практике и, безусловно, впервые «собранном» и представленном в рамках одного исследования. Заслуживает одобрения стремление авторов соединить описание разных важных сфер общественной деятельности, которые традиционно являлись предметом изучения других наук: истории конкретных наук и искусств, педагогики, галломании, англомании и др.
А-вторы придерживаются четко сформулированного ими принципа выявления и анализа текстов, согласно которому в центр внимания попадает та литература, где присутствуют понятие «иностранный язык», его ближайшие корреляты и связанная с этим концептом рефлексия. Поэтому в поле зрения оказывается репрезентативная для истории культурологической мысли фактологическая база, условно разделенная на две части. Во-первых, письменные свидетельства эпохи, полностью или частично составленные на западноевропейских языках и, во-вторых, упоминания о тексте, произнесенном или написанном на иностранном языке.
РЯБОВА
Марина
Эдуардовна – д. ф. н., профессор Мордовского государственн ого университета имени Н. П. Огарева
Итак, на основе огромного количества опубликованных первоисточников и богатого корпуса комментаторской литературы, характеризующих разные стороны политической, хозяйственной, военной, научной, учебной, художественной, дипломатической жизни Р-оссии XVIII века, в работе воссоздается достаточно цельная информативная картина становления и развития языкового сознания, уровня владения иностранным языком образованного россиянина, в зависимости от его социального статуса. А-вторы вживаются в изучаемую эпоху и стараются тщательно передавать и анализировать факты.
А-вторы не случайно сосредоточили свое внимание на XVIII веке – периоде, когда иностранные языки в течение буквально нескольких первых десятилетий стали мощным инструментом приобщения Р-оссии к разным формам интеллектуальной деятельности: науке, образованию, публицистике, системе развлечений и даже управлению. Комплексный анализ культуроформирующих функций западноевропейских языков в Р-оссии рассматриваемой эпохи дает читателю пусть недостаточно уравновешенную в частях, но определенно новую в своей полноте картину аксиологической значимости иностранного языка, его вклада в русскую культуру.
Касаясь предметной области российской культурной политики XVIII столетия, авторы приходят к выводу, что войти в западноевропейскую систему ценностей Р-оссия смогла, только преодолев языковой барьер: «Обучение инженерному, военному делу, врачебному искусству, утверждение новых форм общественного сознания и европеизированных форм жизни были невозможны без практического владения западноевропейских языков».
Культурная политика – одно из самых сложных направлений в деятельности государства. Культура выступает не просто как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством, это процесс интеллектуального и эмоционального обогащения человеком общества и самого себя. Культурная политика формируется не только в высших институтах власти. Она по своей сути должна выражать всеобщие интересы. Именно культурная политика способна дать наиболее эффективное развитие «человеческого капитала», формирование творческих способностей человека. Это означает, что при анализе культурной политики в сфере внимания исследователя должны находиться не только интенции власти, в данном случае в лице Петра I и его ближайшего окружения, но и позиции массового субъекта. Недостаточность массовой озабоченности иностранными языками – важная проблема, затрагиваемая в монографии.
Ч-ему же научил нас XVIII век с точки зрения языковой политики? В определенном своем измерении интеллектуальная русская история представляет собой опыт ретроспективного познания Р-оссии. Е-е можно квалифицировать как самореф-лексию культуры. Думаю, что одним из перспективных подходов к выработке адекватного понимания значения иностранных языков в русской культуре является изучение той совокупности интеллектуальных образов Р-оссии (предпосылок возникновения, взаимосвязи, смены, трансформации), которая была создана отечественной мыслью в XVIII веке.
С этой точки зрения авторы стремятся понять иностранный язык как воплощение социокультурных и социальных смыслов, как конкретную историческую детерминированность сознания, как форму проявления повседневной жизни.
Настоящей творческой находкой следует считать анализ языка спектаклей российского театра, которые использовались для популяризации иностранных языков. Сцена пестрела постановками на итальянском, французском, немецком языках. А-вторы приводят данные, что представления шли с частотностью в среднем одно в десять дней, что свидетельствует о их востребованности. Все придворные должны были посещать спектакли, а значит, упражняться в систематическом восприятии иноязычной сценической речи. Ч-тобы проследить функционирование иностранного языка в российском театре, авторы обращаются к мемуарной литературе: дневниковым записям. По сути дела с помощью маркирующих спектакли текстов в монографии фиксируется важнейшая российская реалия – формирование нового типа воспринимающего зрителя и слушателя, понимающего тот или иной язык.
Обучение языку сопровождалось обучением светскому этикету. Главной идеей такой манифестации европейских языков было усилие российских верхов повысить мотивацию их изучения среди разного социального состава зрителей. Другими словами, содержанием русской культуры было просвещение, включающее в себя десакрализацию социальных отношений, новые формы быта. А- это означает грандиозный сдвиг в интеллектуальной истории страны. Однако такой вывод недостаточно четко сформулирован и не проиллюстрирован фактическим материалом. Нельзя забывать, что увлечение идеей европеизации в итоге выливалось в бездумное и некритичное копирование атрибутов западной жизни, что усугубляло ситуацию вестернизации в стране.
Исследователи попытались взглянуть на языковое существование образованной личности эпохи в рамках столичных городов, что вполне оправданно, так как именно там находилась наибольшая концентрация людей, говорящих на иностранных языках. В центре внимания прежде всего оказываются Петербург и Москва. Любопытно заключение авторов, что «Москва относительно Петербурга всегда была более русскоязычным городом». Иначе говоря, людей, владеющих иностранными языками, в Москве было меньше. К сожалению, в книге не проводится – может, по вполне объективным причинам – ввиду недостаточности необходимых источников – четкая грань между россиянами, владеющими западноевропейскими языками, и обилием носителей иностранных языков. Причина доминирования русского языка в Москве вполне могла быть обусловлена сосредоточением иностранцев в Петербурге.
Достоинством работы является рассмотрение вклада иностранных языков в русскую культуру через описание деятельности различных социальных институтов: образовательных учреждений, коллегий, дипломатических ведомств; анализируются также различные сферы культурно-общественной жизни. Судя по использованным авторами документам, русскую элиту того времени отличали понимание тонкостей многоязычной практики и знание этикета. Б-олее того, многоязычие было в Р-оссии, стремившейся максимально подражать Е-вропе, мерилом образованности. В монографии предлагается любопытная таблица, наглядно иллюстрирующая многоязычие как нередкое явление среди самых разных слоев российского общества. Она фиксирует знание россиянами латинского, итальянского, немецкого, французского, английского, шведского, датского, польского языков.
Согласно утверждению авторов «в силу специфики российской общественноречевой практики концепт иностранный язык был в коллективном сознании образованных россиян постоянно переживаемой универсальной ценностью, культурной константой, способной открыть заинтересованному индивиду практически весь состав накопленной европей- ской культурной информации». Можно, конечно, возражать против такой постановки вопроса, но нельзя не отметить продуманность авторской позиции, побуждающей к дальнейшим размышлениям о роли иностранных языков.
Монография отнюдь не лишена спорных моментов. К примеру, чтобы осмыслить языковую политику Р-оссии, необходимо обрисовать в первую очередь тот исторический контекст, в котором языки функционировали, что, к сожалению, авторы не сделали. В конце XVII – начале XVIII века Р-усь как бы распалась на два полюса: древний и европеизированный. Р-асколотость Р-оссии фактически на две субкультуры можно оценивать как основную характеристику русской жизни, как ее главное противоречие. Одна субкультура представлена многомиллионной, преимущественно крестьянской массой, тяготеющей к архаическим ценностям. Другая включает в себя проникающиеся идеями европейского просвещения верхи Р-оссии: аристократию, дворянство, чиновничество и некоторые иные социальные группы. А-рхаично ориентированная часть русских практически осталась незатронутой всеми иноземными преобразованиями и настолько отличалась от «цивилизованных» верхов, что те их и за людей не считали, а обращались с ними, как со скотом, торгуя крепостными оптом и в розницу. Замечу, что на Западе так обращались только с неграми в долинкольновской А-мерике. А- высшие просвещенные сословия не позволяли себе и говорить по-русски: считалось дурным тоном. Стоит только вспомнить, что родившийся на исходе восемнадцатого века Пушкин, лет до десяти не знал родного языка!
Опасность такого раскола объяснил в своей знаменитой книге о Р-оссии А-. С. А-хиезер: «Р-аскол является не простым разрывом между противоположными ценностями. Попытка одной части общества, например, правящей элиты, распространять на все общество свои ценности приводит к активизации, усилению противоположных ценностей. <…> Возникает стрессовая дискомфортная ситуация, выход из нее той частью общества, которая принимает новшества, ищется на путях прогресса, а той частью общества, для которой эти масштабы слишком велики, – на путях возврата к древним ценностям. В обществе тем самым формируются силы, его разруша-ющие»1. Противостояние двух типов субкультур определяло исторический контекст эпохи, чем, конечно, он не исчерпывается.
Однако в связи со сказанным авторы игнорируют свое собственное рассмотрение российского общества как расколотого, то есть оставляют неизвестным, в какой степени факт изучения иностранных языков, его мотивация – добровольная или принудительная, характерен для каждой из расколотых частей, без чего остается неясным, в какой степени и масштабах эта картина действительно реальна для всей страны. Б-олее того, исследование сосредоточилось в основном на одной части общества – европеизирующейся, представленной россиянами, имеющими или получающими образование, что несколько обедняет исследование, делает его односторонним.
Признавая позицию авторов, хотя и невысказанную явно, но прочитывающуюся имплицитно, что наша интеллектуальная история XVIII века есть по преимуществу история высших классов российского общества, подвергшихся сильнейшей вестренизации, остается открытым вопрос, почему именно таким образом русская культура отреагировала на влияние Запада? Ч-то же касается раскола Р-оссии на две субкультуры, то это, на мой взгляд, не только две детерминирующие характеристики отечественной истории, но и то обстоятельство, которое во многом предопределило место и роль иностранных языков в русской интеллектуальной истории. Впрочем, авторы и сами это осознают, оговаривая специально, что исследование будет продолжено, где планируется представить «социальную структуру общества, а также взаимосвязь государство – общество – личность. Подобный подход даст возможность увидеть историю Р-оссии через описание степени образованности как отдельных личностей, так и социальных и профессиональных слоев и групп, то есть написать интеллектуальную историю Р-оссии».
В заключение отмечу, что главный вклад книги в русскую культуру заключается в обосновании, углублении идеи интеллектуальной истории как особой формы реальности, как предмета, в котором запечатлены воображением ценности субъекта.