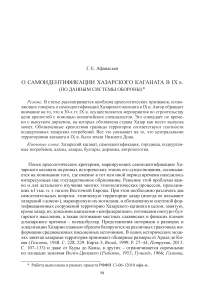О самоидентификации Хазарского каганата в IX в. (по данным системы обороны)
Автор: Афанасьев Г.Е.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 238, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема археологических признаков, позволяющих говорить о самоидентификации Хазарского каганата в IX в. Автор обращает внимание на то, что в 30-х гг. IX в. осуществляются мероприятия по строительству цепи крепостей с помощью византийских специалистов. Это совпадает по времени с выпуском дирхемов, на которых обозначена страна Хазар как место выпуска монет. Обозначенные крепостями границы территории соответствуют плотности подкурганных хазарских погребений. Все это указывает на то, что центральными территориями каганата в IX в. были земли Нижнего Дона.
Хазарский каганат, самоидентификация, городища, подкурган-ные погребения, аланы, хазары, булгары, дирхемы, антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/14328167
IDR: 14328167
Текст научной статьи О самоидентификации Хазарского каганата в IX в. (по данным системы обороны)
* Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 13-06-12010 офи-м.
2006) или Волго-Терского междуречья ( Семёнов , 2009), в третьих – авторы особо подчеркивают, что этот вопрос остается открытым ввиду недостаточной изученности археологического источника ( Голб, Прицак , 1997. Аннотация к карте). Наибольшее распространение получили две гипотезы, размещающие территорию хазарского «домена» и место его столицы. Первая заключается в том, что центр Хазарии IX в. располагался в низовьях Волги. Она основывается на убеждении, что название реки Итиль ( Фасмер , 1986. С. 336, 337), где находилась хазарская столица, связано исключительно с Волгой ( Dunlop , 1967. P. 50; Заходер , 1962. С. 167–202; Golden , 1980. P. 224–229; Новосельцев , 1990. C. 128–131; Калинина , 2007. С. 106–117; Семёнов , 2009. С. 294, 295), но допускается, что на каком-то историческом этапе так мог называться и Терек ( Мудрак , 2010. С. 374–377). Вторая гипотеза базируется на предположении, что гидроним «Итиль» имеет более широкое применение. Ряд исследователей полагает, что хазарский «домен» и даже его столица вполне могут быть локализованы к западу от Волги ( Гадло , 1979. С. 190), в бассейне Дона, нижнее течение которого воспринималось средневековыми информаторами как параллельное русло Волги ( Коновалова , 2007). Следовательно, название «Итиль» распространялось также и на участок Дона от переволоки до устья. В этом случае в качестве этнической территории хазар и места расположения их столицы в IX в. очерчивается южный регион бассейна Дона ( Катунин , 2000; Чередниченко , Ефанов , 2011).
В какой степени археологический источник соответствует той или иной гипотезе? Решение этого вопроса состоит в археологической проверке исторических построений. Задача заключается в экспертной оценке археологического и палеоантропологического материала салтово-маяцкой культуры на предмет поиска в нем этнической и популяционной специфики с определением плотности соответствующих артефактов. Большинство археологов XX в., чьи научные интересы были связаны с памятниками салтово-маяцкой культуры, доверились тем историкам-востоковедам, кто считал, что река Итиль – это исключительно Волга, и размещал столицу Хазарии в низовьях Волги, очерчивая этот регион как сердцевину Хазарского каганата. Поиски там археологических памятников, оставленных хазарскими этническими группами во второй половине VII – первой половине X в., ведутся уже более ста лет, но безрезультатно. Обнаруженные на территории Волгоградской и Астраханской областей редкие разбросанные погребения хазарского времени, не связанные с долговременными или даже сезонными поселениями (Археологическое наследие…, 2013. С. 143–148; Гумилёв , 1966. С. 148–154), создают впечатление далекой периферии.
В 60-х годах прошлого века эту проблему пытался решить Л. Н. Гумилёв, возглавлявший в течение ряда лет специальную археологическую экспедицию Государственного Эрмитажа, безуспешно искавшую хазарский Итиль в дельте Волги. Он считал, что хазары были оседлыми земледельцами и в VI–X вв. их этническая территория располагалась в северной, наиболее пониженной части Прикаспия. По мнению Л. Н. Гумилёва, в то время уровень Каспия был значительно ниже современного, поэтому в Северном Прикаспии пустовали обширные территории плодородной земли, которые активно осваивались хазарами. Эти земли и составляли экономическую базу Хазарского каганата.
В X в. уровень Каспия поднялся на 3 м, в результате чего вся страна хазар оказалась на дне морском ( Гумилёв , 1966).
Одновременно с Л. Н. Гумилёвым к решению этой проблемы приступила С. А. Плетнёва. В ее представлениях хазары были кочевниками, поэтому факт отсутствия их археологического наследия в Северном Прикаспии она объясняла особенностями быта ( Плетнёва , 1982. С. 51). Что же касается города Итиль, то его руины, по мнению исследовательницы, были размыты и засыпаны песком ( Плетнёва , 1967. С. 46). Для того чтобы археологически обозначить территорию Хазарского каганата, была выдвинута гипотеза о существовании «государственной культуры», которая отождествлялась с салтово-маяцкой культурой ( Плетнёва , 2000. С. 206–221; Петрухин , 2013. С. 121–133; Флёров , 2012). У последователей этих взглядов (на уровне интерпретации результатов археологических разведок и раскопок) ( Петрухин и др. , 2009. С. 90–103) главным этномаркирующим признаком в керамическом производстве именно булгаро-хазарских племен фигурируют кухонные горшки с гребенчато-волнистым орнаментом, в формовочной массе которых присутствовал песок. Этот аргумент потерял свою научную значимость после того, как стало ясно, что такие сосуды производились и донскими аланами, и северокавказскими аланами, и представителями северокавказского субстратного населения, и многими другим этнокультурными группировками Восточной Европы ( Афанасьев , 2013. С. 13–25).
Целенаправленные разведки в низовьях Волги, проводимые московскими, петербургскими, ростовскими, калмыкскими, астраханскими, волгоградскими и дагестанскими археологами в последние 50 лет с целью обнаружить хазарскую столицу положительного результата не дали. Не удалось там найти ни города Итиль, ни вообще следов каких-нибудь хазарских долговременных поселений со слоями салтово-маяцкой культуры1, которые можно было бы связать с Хазарским каганатом. Следовательно, нет ничего, что могло бы свидетельствовать о существовании там крупного государственного объединения, каким в письменных источниках рисуется Хазарский каганат. В то же время на Нижней Волге обнаружены многочисленные памятники других народов – сарматского, огузского и золотоордынского времени. Так в чем же дело, почему там нет следов хазарских поселений?
Вплоть до 60–70-х гг. прошлого века археологические памятники хазарских этнических групп вообще не были известны нашей науке, а в обобщающих работах по археологии Хазарского каганата эта проблема скрывалась в общих рассуждениях о полиэтничности и «государственности» салтово-ма-яцкой культуры ( Pletnjowa , 1978. S. 7–162). Благодаря открытию С. И. Капоши-ной, Г. А. Фёдоровым-Давыдовым и Л. С. Клейном подкурганных погребений, чью этнокультурную принадлежность хазарам впервые четко сформулировал
-
1 Утверждения, что на городище Самосделка обнаружены слои салтово-маяцкой культуры, остаются пока научно не обоснованными. Полученные из нижней части культурного слоя радиокарбонные даты VIII–IX вв., а также открытые там остатки круглоплановых построек вряд ли являются аргументами в пользу именно хазарской принадлежности этого памятника, а не какого-то иного этнокультурного компонента.
А. И. Семёнов, стали ясны общие археологические контуры этой проблематики ( Семёнов , 1983. С. 101, 102; 1988. С. 97–111; Иванов , 1999; Флёрова , 2001; Круглов , 2005а).
Для решения вопроса о локализации этнической территории хазар во второй половине VIII – IX в. мною была предложена процедура изучения динамики плотности ареала хазарских подкурганных погребений ГИС-методами (цв. рис. 1-Б: с. 329) с помощью программы ArcView. Результаты исследований показали, что наивысшая концентрация таких памятников в IX в. приходится на бассейн Нижнего Дона ( Афанасьев, Атавин , 2002). Оказалось, что этот ареал сопряжен и с концентрацией находок монголоидных черепов, характеризующих хазарские этнические группы ( Батиева , 2002; Балабанова , 2006), и с концентрацией находок рунических надписей ( Кызласов , 1994. С. 3–320) в Волго-Донском междуречье. Кроме того, на эту же территорию приходится основной массив находок луков хазарского типа ( Савин, Семёнов , 1998. С. 295), хотя по этому вопросу существуют и иные суждения ( Круглов , 2005б). Наконец, в отличие от населения, практиковавшего катакомбный и ямный обряд погребения (за исключением кремационных и биритуальных могильников лесостепной зоны), в подкурганных погребениях найдены зеркала с длинной ручкой, аналогичные зеркалам из погребений Самарской Луки, джетыасарских и кенкольских могильников ( Левина, Равич , 1995. С. 127–129; Богачёв , 2000. С. 150; Зубов , 2006. С. 76). Возникает вопрос о степени соответствия всех этих наблюдений той ситуации, которую показывает анализ системы обороны хазарского времени региона ВолгоДонского междуречья.
Как известно, этнические группы, обосновавшиеся на определенной территории и осознающие свою принадлежность к какому-то политическому образованию, стремились создать комплекс защитных мер, направленных на отражение возможных угроз со стороны враждебных им этнополитических группировок или государств. Особое значение придавалось укреплению центральных районов, где концентрировались органы власти и управления. Анализ ареалов, взаимосвязи и плотности 48 городищ хазарского времени, открытых в Волго-Донском междуречье, дает нам представление о системе обороны Хазарского каганата в целом, о расположении и «центральности» защищенных областей этой страны. Большая часть городищ (табл. 1, тип 1 ) иллюстрирует примитивную систему оборонительных сооружений, состоящую из эскарпов, рвов и грунтовых валов – традиционных способов обеспечения безопасности зоны ответственности родоплеменных групп или территориальных общин. Меньшую часть (табл. 1, тип 2 ; цв. рис. 3: с. 330) составляют крепости геометрической формы, построенные из сырцового, обожженного кирпича или обработанных каменных блоков. Они отражают совершенно новое явление в фортификационном зодчестве населения Юго-Восточной Европы, уходящее в традиции позднеантичной – ранневизантийской полевой архитектуры и воплощенное в специальных мероприятиях по обеспечению безопасности Хазарского каганата на государственном уровне в связи с возникновением угрозы со стороны Русского каганата ( Афанасьев , 1993. С. 123–150; Седов , 1999. С. 67–77).
Таблица 1. Основные городища хазарского времени в бассейне Дона
|
№ |
Название |
Тип |
Долина реки |
|
1 |
Верхнеольшанское |
2 |
Тихая Сосна |
|
2 |
Маяцкое |
2 |
Тихая Сосна |
|
3 |
Павловское |
1 |
Тихая Сосна |
|
4 |
Мухоудеровское |
2 |
Тихая Сосна |
|
5 |
Колтуновское |
2 |
Тихая Сосна |
|
6 |
Алексеевское |
2 |
Тихая Сосна |
|
7 |
Красное |
2 |
Тихая Сосна |
|
8 |
Чугуевское |
1 |
Северский Донец |
|
9 |
Верхнесалтовское |
2 |
Северский Донец |
|
10 |
Хотомлянское |
1 |
Северский Донец |
|
11 |
Кочеток-1 |
1 |
Северский Донец |
|
12 |
Кабаново |
1 |
Северский Донец |
|
13 |
Мохнач |
1 |
Северский Донец |
|
14 |
Сухая Гомольша |
1 |
Северский Донец |
|
15 |
Вербовское |
1 |
Северский Донец |
|
16 |
Старосалтовское |
1 |
Северский Донец |
|
17 |
Кицевское |
1 |
Северский Донец |
|
18 |
Коробовы Хутора |
1 |
Северский Донец |
|
19 |
Афоньевское |
1 |
Оскол |
|
20 |
Ютановское |
1 |
Оскол |
|
21 |
Поминовское |
1 |
Оскол |
|
22 |
Подлысенки |
1 |
Оскол |
|
23 |
Яблоновское |
1 |
Оскол |
|
24 |
Большое Городище |
1 |
Короча |
|
25 |
Дмитриевское |
1 |
Короча |
|
26 |
Карабут |
1 |
Дон |
|
27 |
Волчанское |
1 |
Волчья |
|
28 |
Левобережное |
2 |
Дон |
|
29 |
Правобережное |
2 |
Дон |
|
30 |
Камышовское |
2 |
Дон |
|
31 |
Потайновское |
1 |
Дон |
|
32 |
Среднее |
1 |
Дон |
|
33 |
Семикаракорское |
2 |
Дон |
|
34 |
Крымское-1 |
2 (?) |
|
|
35 |
Крымское-2 |
1 |
|
|
36 |
Золотовское |
1 |
Дон |
|
37 |
Золотые Горки |
1 |
Дон |
|
38 |
Великокняжеское |
1 |
Маныч |
|
39 |
Рыгинское |
1 |
Северский Донец |
|
40 |
Святогорское |
1 |
Северский Донец |
|
41 |
Татьяновское |
1 |
Северский Донец |
|
42 |
Богородичное |
1 |
Северский Донец |
|
43 |
Теплинское |
1 |
Северский Донец |
|
44 |
Кировское |
1 |
|
|
45 |
Сидоровское |
1 |
Северский Донец |
|
46 |
Царино (Маяки) |
1 |
Северский Донец |
|
47 |
Осияновогорское |
1 |
Северский Донец |
|
48 |
Райгородское |
1 |
Северский Донец |
Тип 1 – городища с насыпными из грунта валами; тип 2 – городища со стенами из каменных блоков, обожженного или сырцового кирпича.
Анализ этой выборки ГИС-методами позволяет выделить в зонах лесостепного и степного вариантов салтово-маяцкой культуры шесть фортификационных агломераций – укрепрайонов (цв. рис. 1, А ). Две первые, одна из которых охватывает долину Тихой Сосны, а вторая – долину Оскола, территориально сопряжены с расселением консолидированного аланского сообщества (цв. рис. 2, А : с. 329, табл. 2). Это – носители катакомбного обряда погребения, обладающие единством морфологического облика, проявляющегося в чертах строения черепа, посткраниального скелета и демографической структуры. Их краниологические особенности позволяют выделить два морфологических подтипа ( Кондукторова , 1991. С. 145; Решетова , 2014. С. 83, 84), сложившихся на сармато-аланской основе. Возможно, что наличие двух морфологических подтипов в сообществе донских алан как-то сопряжено с двумя основными вариантами катакомбной погребальной традиции (ютановско-верхнесалтовской и нижнелубянско-дмитриевской), указывающими на уже сложившуюся племенную субкультуру ( Афанасьев , 1993. С. 80–93), но этот вопрос требует специального рассмотрения.
Как показывают палеоантропологические данные, донские аланы сохраняли традиционную структуру брачных связей с низкими метисационными процессами ( Решетова , 2014. С. 128). На оседлость и стационарность их образа жизни указывают результаты изотопного анализа: значительная часть растительного компонента в рационе, низкая индивидуальная изменчивость изотопных показателей ( Добровольская, Решетова , 2014). У донских алан зафиксирован более высокий уровень травматизма, обусловленный военными столкновениями, чем у их соседей – булгар/псевдобулгар ( Решетова , 2014. С. 107). Открытия последних лет позволяют указать и на главную особенность в специфике сельского хозяйства донских алан, выраженную в системе террасного земледелия, следы которого зафиксированы в окрестностях Маяцкого, Красного ( Афанасьев и др ., 2012; Рябогина и др. , 2013), Ютановского и Дмитровского городищ. Эта система землепользования, аналогичная северокавказской традиции ( Борисов, Коробов , 2013. С. 7–233), была совершенно незнакома соседнему славянскому и булгарскому/псевдобулгарскому населению.
Таблица 2. Основные ямные, катакомбные и кремационные могильники и отдельные погребения в лесостепной зоне Донецко-Донского междуречья
|
№ |
Ямные могильники |
Катакомбные могильники |
Кремационные могильники |
|
1 |
Дивногорье |
Маяцкий |
Кочеток |
|
2 |
Павловск |
Афоньевка |
Тополи |
|
3 |
Червоная Горка |
Ютановка |
Новая Покровка |
|
4 |
Сердюково-2 |
Нижняя Лубянка |
Сухая Гомольша |
|
5 |
Мартовая |
Подгоровка |
Лысый Горб |
|
6 |
Петровское |
Дмитровка |
Пятницкое |
|
7 |
Хотомля |
Рубежное |
Червоная Горка |
|
8 |
Металловка |
Верхний Салтов |
Вербовка |
|
9 |
Червоная Гусаровка |
Старый Салтов |
Червоная Гусаровка |
|
10 |
Бочково |
Алексеевка (?) |
Кицевка |
|
11 |
Тишанка |
Бочково (?) |
|
|
12 |
Титовка |
Ниновка (?) |
|
|
13 |
Ржевка |
Столбище (?) |
|
|
14 |
Рождественский |
||
|
15 |
Мандрово |
||
|
16 |
Храпово |
||
|
17 |
Утиново |
||
|
18 |
Терехово |
||
|
19 |
Большой Хутор |
||
|
20 |
Столбище |
||
|
21 |
Волоконовка-1 |
||
|
22 |
Волоконовка-2 |
||
|
23 |
Волоконовка-3 |
||
|
24 |
Волоконовка-4 |
||
|
25 |
Шелаево |
||
|
26 |
Белый Плёс |
||
|
27 |
Борки |
||
|
28 |
Чертовицкое |
||
|
29 |
Старая Тойда |
||
|
30 |
Старая Калитва |
||
|
31 |
Чибисовка |
||
|
32 |
Тишанская |
Третья фортификационная агломерация располагается в бассейнах Нежего-ли, Волчьей и части Северского Донца до места впадения в него р. Балаклейка. Раннесредневековое население этого укрепрайона неоднородно и включает три этнокультурных компонента. Один из них, занимающий северную часть территории, состоит из носителей катакомбного обряда погребения (цв. рис. 2, А, табл. 2). Это представители того же аланского консолидированного сообщества, которое было территориально сопряжено с первой и второй фортификационными агломерациями. Второй этнокультурный компонент третьей фортификационной агломерации, охватывающий южную часть укрепрайона, представлен населением, практиковавшим обряд кремации трупов (цв. рис. 2, А, табл. 2) (Афанасьев, 1987. С. 150–155. Рис. 86; Лаптев, 2013. С. 88–95, 178; Аксёнов, 2014). Этническая принадлежность этого населения продолжает активно обсуждаться: высказаны славянская, тюркская, иранская, финно-угорская версии.
Третий компонент, представленный населением, практикующим ямный обряд погребения (цв. рис. 2, Б , табл. 2), в этническом отношении не был однородным, о чем свидетельствуют не только археологические источники ( Афанасьев , 1987. С. 143–167; Лаптев , 2013. С. 88–95, 178; Аксёнов , 2014), но и результаты палеоантропологических исследований. Установлено, что морфологический облик этого неконсолидированного населения, которое в исторической литературе именуется булгарами/псевдобулгарами, характеризуется пестротой и свидетельствует о степном, лесостепном и лесном происхождении различных групп населения, практикующего общий ямный обряд погребения и элементы салтово-маяцкой культуры. Результаты изотопного анализа позволили установить, что это население не имело общих традиций и в системе питания. У представителей данной этнокультурной группы зафиксирована высокая индивидуальная изменчивость, которая объясняется тем, что в последние 10 лет жизни индивидуумы вели подвижный образ жизни, пребывали в разных ландшафтно-климатических условиях с широким разнообразием традиций диеты. Их жизненный уровень был значительно ниже уровня аланского населения, что выражается в высоких показателях маркеров стресса, в практически полном отсутствии детских погребений и в ряде других характеристик ( Решетова , 2014. С. 122–126) .
Территория четвертой фортификационной агломерации охватывает долину Сев. Донца от места впадения в него р. Оскол до места впадения в него р. Боровой. Территориально она сопряжена с населением, которое по своим погребальным традициям и антропологическим характеристикам аналогично населению, представленному третьим этнокультурным компонентом в третьей фортификационной агломерации. Таким образом, нет никаких оснований говорить о постоянном проживании каких-то хазарских этнических групп в зонах ответственности первой-четвертой фортификационных агломераций, хотя в некоторых работах можно встретить высказанные (без должной аргументации) утверждения о хазарских ханских ставках, хазарских гарнизонах или хазарских торговых факториях, якобы размещавшихся на славянском пограничье в зоне лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры.
Для темы настоящего исследования интересно то, что пятая и шестая фортификационные агломерации сопряжены с расселением на Нижнем Дону собственно хазар, практикующих подкурганный обряд захоронения и имеющих значительный монголоидный компонент в своем морфологическом облике. Здесь наивысшая плотность оборонительных сооружений приходится на территорию окрестностей Волгодонска, где выделяется Цимлянская оборонительная агломерация (Камышовское, Левобережное и Правобережное, Потайновское, Среднее городища) и Семикаракорская оборонительная агломерация (Семика-ракорское, Крымское 1, Крымское 2, Золотовское, Золотые Горки, Великокня- жеское, Рыгинское городища). Установлено, что с Цимлянской агломерацией территориально сопряжена Верхне-Сальская группа подкурганных погребений, а с Семикаракорской агломерацией – Нижне-Сальская. Все это указывает на создание в бассейне Нижнего Дона хорошо продуманной системы обороны, направленной на защиту этого микрорегиона (Ларенок, 2000) в пределах этнической территории хазар в IX в.
Важно обратить внимание и на время сооружения городищ, построенных в землях Хазарского каганата в византийских архитектурных и строительных традициях, в рамках реализации общегосударственной оборонительной концепции (цв. рис. 3, А, Б ). Ряд фактов дает основание полагать, что процесс по возведению таких крепостей охватывал 30–40-е гг. IX в. На это указывает ра-диокарбонная дата образца бревна из Алексеевского городища (767–847 гг.), которая в рамках четвертого десятилетия IX в. синхронна с радиокарбонной датой основания Маяцкого городища (809–891 гг.) и одновременна с младшей монетой (813 г.) из клада Правобережного Цимлянского городища (с учетом поправки на время хождения монеты). Все они совпадают с миссией Петроны в Хазарию для возведения Саркела (834–840 гг.), за которой скрывается строительство цепи крепостей в бассейне Дона ( Vernadsky , 1959. P. 186; Obolensky , 1971. P. 176; Афанасьев , 1993. С. 123–150; Седов , 1999. С. 72). Вряд ли можно считать случайным и то обстоятельство, что именно в первой трети IX в. в Хазарском каганате происходит политическая реформа – выдвижение на первый план шада-бека, отвечающего за безопасность государства.
Процесс государственной самоидентификации Хазарского каганата находит отражение и в денежной системе. Хазары начали чеканить свою собственную монету по образцу арабских дирхемов ( Быков , 1974; Фомин , 1990; Сидоренко , 2002; Noonan , 1984), но с дополнительным изображением трезубца. К 837/838 гг. и 842 г. относятся эмиссии дирхемов с указанием места их выпуска – «Страна Хазар». Вместо традиционной легенды «Мухаммад посланник Божий» на некоторых монетах размещается легенда «Моисей посланник Божий» ( Kovalev , 2005), что отражает известный факт принятия хазарской властью иудаизма в качестве государственной религии ( Golden , 1983). Приведенные данные значительно корректируют понимание информации письменных источников, предложенные историками модели локализации страны в Нижнем Поволжье2. Они позволяют говорить о том, что в 30–40-х гг. IX в. в Хазарском каганате действительно происходят активные внутриполитические процессы, направленные на государственную самоидентификацию с четким обозначением территориальных границ государства.
Итак, археологические источники, которыми наша наука располагает в настоящее время, позволяют уточнить этническую территорию хазарских племен в IX в. Они свидетельствуют о том, что центральным регионом Хазарского каганата были земли Нижнего Дона – от Таганрогского залива до Волго-Донской переволоки. Размеры Хазарского «домена», намеченные Б. А. Рыбаковым
-
2 Приписываемая мне В. С. Флёровым точка зрения о размещении хазарского города Итиль на месте Семикаракорского городища ( Флёров , 2011. С. 116, 117) надумана и не соответствует моим взглядам.
и с некоторыми уточнениями фактически поддержанные в настоящее время Е. С. Галкиной и В. А. Шороховым ( Рыбаков , 1953; Галкина , 2006; Шорохов , 2010. С. 89–94), в большей степени соответствуют археологическим данным, чем те гипертрофированные размеры страны, которые фигурируют в работах исследователей ( Флёров , 2012; Петрухин , 2013. С. 121–133), ориентирующихся или на сильно преувеличенную информацию хазарских письменных источников, или опирающихся на устаревшую гипотезу о маркирующей Хазарский каганат свойствах «государственной культуры», представленной салтово-маяцкой культурой в ее самом расширенном понимании.
Список литературы О самоидентификации Хазарского каганата в IX в. (по данным системы обороны)
- Утверждения, что на городище Самосделка обнаружены слои салтово-маяцкой культуры, остаются пока научно не обоснованными. Полученные из нижней части культурного слоя радиокарбонные даты VIII-IX вв., а также открытые там остатки круглоплановых построек вряд ли являются аргументами в пользу именно хазарской принадлежности этого памятника, а не какого-то иного этнокультурного компонента
- Приписываемая мне В. С. Флёровым точка зрения о размещении хазарского города Итиль на месте Семикаракорского городища (Флёров, 2011. С. 116, 117) надумана и не соответствует моим взглядам
- Аксёнов В. С., 2014. Новые материалы по вопросу освоения населением Хазарии бассейна Северского Донца//Хазарский альманах. Т. 12. Київ; Харкiв. С. 4-33.
- Археологическое наследие.., 2013 -Археологическое наследие Волгоградской области/Под ред. А. С. Скрипкина. Волгоград: Издатель. 288 с.
- Афанасьев Г Е. 1987. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VIII-X вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры). М.: Наука. 198 с. (Археологические открытия на новостройках; Вып. 2.)
- Афанасьев Г. Е., 1993. Донские аланы. Социальные структуры алано-ассо-буртасского населения бассейна Среднего Дона. М.: Наука. 184 с.
- Афанасьев Г. Е., 2013. Кухонная посуда салтово-маяцкой культуры -этномаркирующий признак?//РА. № 3. С. 13-25.
- Афанасьев Г. Е., Атавин А. Г., 2002. Что же такое хазарский погребальный обряд? (Проблемы материала, археологического анализа и интерпретации)//Хазары: Второй Междунар. коллоквиум: Тез./Ред. В. Я. Петрухин, А. М. Федорчук. М.: Пробел-2000. С. 14-16.
- Афанасьев Г. Е., Добровольская М. В., Борисов А. В., 2012. Ирано-тюркский кондоминиум в ресурсных и транзитных зонах восточноевропейской лесостепи и фактор византийско-хазарского противостояния русам//Мегасруктуры евразийского мира: основные этапы формирования: Мат-лы Всеросс. науч. конф. (Москва, Институт археологии РАН, 4-6 декабря 2012 г.)/Ред. и сост. Е. Н. Черных. М.: Таус. С. 77-83.
- Балабанова М. А., 2006. Особенности антропологического состава погребальных комплексов хазарского времени//Некоторые актуальные проблемы современной антропологии/Отв. ред. И. И. Гохман, А. В. Громов. СПб.: МАЭ РАН. С. 59-61.
- Батиева Е. Ф., 2002. Антропология населения Нижнего Подонья в хазарское время//Донская археология. № 3-4. С. 71-101.
- Богачёв А. В., 2000. Кочевники лесостепного Поволжья V-VIII вв.: Дисс.. докт. ист. наук. СПб. 432 с.
- Борисов А. В., Коробов Д. С., 2013. Древнее и средневековое земледелие в Кисловодской котловине: итоги почвенно-археологических исследований. М.: Таус. 272 с.
- Быков А. А., 1974. Из истории денежного обращения Хазарии в VIII и IX вв.//Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы/Под ред. А. С. Тверитиновой. М.: Наука. Вып. 3. С. 67.
- Гадло А. В., 1979. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Л.: Ленинградский ун-т. 216 с.
- Галкина Е. С., 2006. Территория Хазарского каганата IX -первой половины X в. в письменных источниках//Вопросы истории. № 9. C. 132-145.
- Голб Н., Прицак О., 1997. Хазарско-Еврейские документы Х в. М.; Иерусалим: Гешарим. 239 с.
- Гумилёв Л. Н., 1966. Открытие Хазарии (историко-географический этюд). М.: Наука. 189 с.
- Добровольская М. В., Решетова И. К., 2014. Питание носителей тРАдиции салтово-маяцкой культуры в Доно-Донецком междуречье по данным изотопного анализа//РА. № 2. С. 33-41.
- Заходер Б. Н., 1962. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. I: Горган и Поволжье в IX-X вв. М.: Восточная литература. 279 с.
- Зубов С. Э., 2006. Заселение кочевниками-болгарами Среднего Поволжья в ѴП-ѴШ вв. (к вопросу об этнокультурной компоненте): Дисс.. канд. ист. наук. Казань. 320 с.
- Иванов А. А., 1999. Раннесредневековые подкурганные кочевнические захоронения второй половины VII -первой половины IX вв. Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья: Дисс.. канд. ист. наук. Волгоград. 252 с.
- Калинина Т. М., 2007. Днепровско-Донской бассейн в представлениях арабо-персидских географов IX-X вв.//Хазарский альманах. Т. 6. Киев; Харьков. С. 106-119.
- Катунин В. А., 2000. Итиль и Цимлянские городища: к вопросу об идентификации//Археология и древняя архитектура левобережной Украины и смежных территорий/Науч. ред. С. Д. Крыжицкий. Донецк: Донецкий гос. ун-т. С. 119-120.
- Кондукторова Т. С., 1991. Палеоантропологические материалы Маяцкого селища//Винников А. З., Афанасьев Г. Е. Культовые комплексы Маяцкого селища. Воронеж: Воронежский ун-т. С. 144-170.
- Коновалова И. Г., 2007. Волго-донской путь в арабской географии XII в.//Хазарский альманах. Т. 6. Киев; Харьков. С. 133-139.
- Круглов Е. В., 2005а. Хазары -поиск истины//Хазары/Ред. В. Я. Петрухин и др. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим. C. 427-457. (Евреи и славяне; Т. 16.)
- Круглов Е. В., 2005б. Сложносоставные луки Восточной Европы раннего средневековья//Степи Европы в эпоху средневековья/Ред. А. В. Евглевский. Т. 4: Хазарское время. Донецк: Донецкий нац. ун-т. С. 73-142.
- Кызласов И. Л., 1994. Рунические письменности Евразийских степей. М.: Восточная литература. 327 с.
- Лаптев А. А., 2013. Ямные ингумационные могильники в салтовской лесостепи//Салтово-маяцька археологiчна культура: проблеми та дослiдження. Вип. 3. Харькiв: Савчук О. О. C. 88-96, 178-181.
- Ларенок П. А., 2000. Хазария и Нижний Дон//Światowit. T. 2 (43). С. 81-92.
- Левина Л. М., Равич И. Г., 1995. Бронзовые зеркала из джетыасарских памятников//Джетыасарская культура/Ред. А. Н. Седловская. Ч. 5. М.: ИЭИА. С. 122-185.
- Мудрак О. А., 2010. Ранние Хазары с точки зрения этимологии//Хазары: миф и история. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Gesharim. C. 374-389.
- Новосельцев А. П., 1990. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука 264 с.
- Петрухин В. Я., 2013. Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выбора веры. М.: Форум: Неолит. 463 с.
- Петрухин В. Я., Аржанцева И. А., Зиливинская Э. Д., Флёров В. С., 2009. «Хазарский проект»: новые исследования на юге Восточной Европы//Дивногорский сборник. Вып. 1. Воронеж: Воронежский ун-т. С. 90-106.
- Плетнёва С. А., 1967. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.: Наука. 198 с.
- Плетнёва С. А., 1982. Кочевники Средневековья. М.: Наука. 188 с.
- Плетнёва С. А., 2000. Очерки хазарской археологии. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим. 241 с.
- Решетова И. К., 2014. Население Донецко-Донского междуречья в раннем средневековье (по материалам погребальных памятников салтово-маяцкой культуры): Дисс.. канд. ист. наук. М. 263 с.
- Рыбаков Б. А., 1953. К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси//СА. Вып. XVIII. C. 128-150.
- Рябогина Н. Е., Борисов А. В., Иванов С. Н., Занина О. Г., Савицкий Н. М., 2013. Природные условия на юге Среднерусской возвышенности в хазарское время (IX-X вв.)//Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 3 (22). С. 182-194.
- Савин А. М., Семёнов А. И., 1998. О центральноазиатских истоках лука хазарского типа//Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе: Мат-лы Междунар. конф., 2-5 сент. 1998 г/Ред. Г. В. Вилинбахов, В. М. Массон и др. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 290-295.
- Седов В. В., 1999. Древнерусская народность. М.: Языки русской культуры. 320 с.
- Семёнов А. И., 1983. Романовское погребение и донские памятники предсалтовской культуры хазарского времени//Проблемы хронологии археологических памятников степной зоны Северного Кавказа/Отв. ред. В. Я. Кияшко. Ростов-на-Дону: Ростовский ун-т. С. 98-102.
- Семёнов А. И., 1988. К выявлению центральноазиатских элементов в культуре раннесредневековых кочевников Восточной Европы//АСГЭ. Вып. 29. С. 97-111.
- Семёнов И. Г., 2009. География собственно Хазарии и вопрос о поисках иудейско-хазарских памятников//Хазарский альманах. Т. 8. Харьков; Киев. С. 289-314.
- Сидоренко В. А., 2002. Подражания аббасидским дирхемам и динарам в монетном обращении Таврики хазарского времени//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. IX. Симферополь. C. 429-453.
- Толстов С. П., 1948. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.; Л.: Академия наук СССР 328 с.
- Фасмер М., 1986. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М.: Прогресс. 573 с.
- Флёров В. С., 2011. «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность. М.: Мосты Культуры; Иерусалим: Gesharim. 258 с.
- Флёров В. С., 2012. О государственной материальной культуре и государстве Хазарский каганат//Восточная Европа в древности и средневековье. Миграции, расселение, война как факторы политогенеза: XXIV Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. М.: Ин-т всеобщей истории РАН. С. 260-266.
- Флёрова В. Е., 2001. Курганы с квадРАтными ровиками: ЦентРАльная Азия или Восточная Европа//РА. № 4. С. 71-82.
- Фомин А. В., 1990. Подражательный дирхем «Ард-ал-Хазар» IX в.//Восточная Европа в древности и Средневековье. Проблемы источниковедения: Чтения памяти В. Т. Пашуто (Москва, 18-20 апр. 1990 г.): Тез. докл. М.: Ин-т истории СССР. С. 136-138.
- Чередниченко А. Г., Ефанов А. Н., 2011. Византийская традиция о реке Итиль-Атель//Научные Ведомости. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. № 1 (96). Вып. 17. С. 67-70.
- Шорохов В. А., 2010. Хазарский каганат и сфера его влияния в IX в. (по данным «Анонимной записки» и «Книги путей и стран» Ибн Хордадбеха)//Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. № 2. С. 88-98.
- Brook K. A., 1999. The Jews of Khazaria. Northvale; New Jersey; Jerusalim: Jason Aronson Inc. 352 p.
- Dunlop D. M., 1967. The History of the Jewish Khazars. New York: Schoken Books. 293 p.
- Golden P. B., 1980. Khazar Studies. An historico-philological inquiry into the origins of the Khazars. Vol. 1. Budapest: Akadémiai Kiadó. 291 p.
- Golden P. B., 1983. Khazaria and Judaism//Archivum Eurasiae Medii Aevi. III. Wiesbaden. P. 127-156.
- Kovalev R. K., 2005. Creating Khazar Identity through Coins: The Special Issue Dirhams of 837/8//East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages. Ann Arbor: The University of Michigan Press. P. 220-253.
- Noonan T. S., 1984. A Ninth-Century Dirham Hoard from Devista in Southern Russia//Numismatic Chronicle. Vol. 144. London. P. 185-209.
- Obolensky D., 1971. The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe 500-1453. London: Weidenfeld and Nicolson. 445 p.
- Pletnjowa S. A., 1978. Die Chasaren. Mittelalterliches Reich an Don und Wolga. Leipzig: Koehler-Amelang. 172 S.
- Vernadsky G., 1959. The Origins of Russia. Oxford: Clarendon Press: Oxford University Press. 354 p.