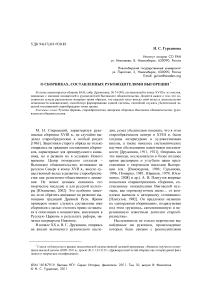О сборниках, составленных руководителями выгореции
Автор: Гурьянова Наталья Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник: от средневековья к новому времени
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется сборник БАН, собр. Дружинина, № 74 (99), составленный в конце XVIII в. из текстов, связанных с именами основателей и руководителей Выговского общежительства. Делается вывод о том, что составители сумели расположить материал таким образом, что каждый текст вносил свой вклад в доказательство незаконности нововведений, способствуя формированию единой системы, способной служить убедительной защитой отстаиваемой старообрядцами точки зрения.
Русская церковь, старообрядчество, авторские сборники, выговское общежительство, руководители общежительства
Короткий адрес: https://sciup.org/14737582
IDR: 14737582 | УДК: 94(47).04+930.85
Текст научной статьи О сборниках, составленных руководителями выгореции
М. Н. Сперанский, характеризуя рукописные сборники XVIII в., не случайно выделил старообрядческие в особый раздел [1963]. Защитники старого обряда не только опирались на традиции составления сборников, характерные для древнерусского книжника, но и развили их в условиях Нового времени. Центр поморского согласия – Выговское общежительство, возникшее на русском Севере в конце XVII в., внесло существенный вклад в развитие старообрядчества как религиозно-общественного движения. Не менее ценным оказалось его творческое наследие и для русской культуры [Юхименко, 2002]. Это особенно заметно, если обратить внимание на развитие вы-говцами традиций Древней Руси. Ярким примером может служить составление ими сборников с целью отстоять право оставаться в оппозиции к новшествам, внесенным в Русскую Церковь в результате реформ, начатых патриархом Никоном.
В начале XX в. В. Г. Дружинин, опираясь на анализ выговского рукописного насле- дия, сумел убедительно показать, что в этом старообрядческом центре в XVIII в. были созданы литературная и художественная школы, а также началось систематическое научное обследование памятников письменности [Дружинин, 1911, 1921]. Опираясь на эти выводы, исследователи в более позднее время расширили и углубили наши представления о творческом наследии Выгоре-ции (см.: [Винокурова, 1994; Гурьянова, 1996; Понырко, 1981; Шашков, 1979; Юхи-менко, 2008] и др.). А. И. Плигузов впервые попытался охарактеризовать сборники, составленные основателями Выговской пустыни, как «промежуточное звено… от комплекса выписок к авторскому сочинению» [Плигузов, 1982]. Он предложил называть их «авторскими сборниками», подразумевая под этим «рукопись, скомпонованную и переписанную известным деятелем старообрядчества».
Исследователь не только перечислил все найденные им рукописи, происхождение которых было связано с руководителями киновии, но и выделил три вида таких сборников непостоянного состава: «сборники, в которых единственно присутствуют или преобладают выписки из святоотеческой литературы; сборники, включающие авторские поморские сочинения наравне с патристикой и Священным Писанием… и включающие только поморские сочинения». А. И. Плигузов подчеркнул ценность этих рукописей в качестве источника для характеристики взглядов составителей не только на проблемы религиозной жизни, но и их мировоззрения [Плигузов, 1982]. Перспективность обращения к двум первым типам сборников показала работа с ними А. И. Плигузова и О. К. Беляевой. Например, их анализ позволил О. К. Беляевой не только подтвердить ранее высказываемую исследователями точку зрения о том, что некоторые составлялись в качестве подготовительных материалов для предстоящих дискуссий с представителями официальной Церкви, но и показать процесс постепенного увеличения от сборника к сборнику количества приводимых фрагментов текстов [Беляева, 1986; 1989; 1996].
Сборники, «включающие только поморские сочинения», несомненно, представляют большой научный интерес. Попытаемся показать это, обратив внимание на сборник из собрания В. Г. Дружинина, который А. И. Плигузов указал при перечислении авторских сборников, связанных с именами основателей Выговской пустыни, но не охарактеризовал его [Плигузов, 1982. С. 105] 1. Разумеется, мы тоже не сумеем представить его достаточно полно, а остановимся только на некоторых характерных чертах. Еще В. Г. Дружинин обратил внимание на то, что сборники, происхождение которых связано с именами выговских «большаков», часто собраны из отдельных тетрадок, написанных в разное время [Дружинин, 1915. С. 22]. Сборник Д. 74 яркое тому подтверждение, поскольку представляет собой сборную рукопись в картонной обложке, составленную из 5 частей, отличающихся бумагой и почерками.
В начале, на л. 5–67, помещено сочинение, переписанное Андреем Денисовым (1674–1730), Даниилом Викулиным (1653–
1733), Петром Прокопьевым (1673–1719) и еще одним писцом [Сочинения…, 2001. С. 268]. Состав писцов свидетельствует, что перед нами какое-то значительное произведение, которое выговцы считали важным. Во второй половине XVIII в., когда составлялся сборник Д. 74, его поместили первым. Приведем его название, поскольку в нем дана краткая аннотация содержания: «Пока-зателное списание на новоявльшиеся философы и учители и иже от них списателныя книги Скрижали, Жезла и Увета, показую-щее их древним Богодухновенным Писанием, еще же и к друг другу несогласное мудрование. Писано по понуждению благо-вернейших и боголюбивых отец и братии от Божественных Писаниих грешнейшим человеком, но христианином и благоверное святых отец предание зело лобызающим» 2.
В. Г. Дружинин считал автором этого сочинения Даниила Матвеева (1687–1776) [Дружинин, 1912. С. 200–201]. Для нас важно, что до 1719 г. этот список был изготовлен первыми лицами Выгорецкого общежи-тельства, а во второй половине XVIII столетия, когда составлялся сборник, его поместили в начале. Следовательно, руководители киновии и составители сборника придавали особое значение этому тексту. Как это следует уже из заголовка-аннотации, он написан с целью опровержения трех книг – сборника «Скрижаль», изданного в 1655–1656 гг., «Жезла правления» Симеона Полоцкого, вышедшего из печати в 1667 г. и «Увета Духовного», опубликованного в 1682 г. 3
Все три текста, появившиеся в XVII в., были основополагающими при обосновании церковной реформы, начатой патриархом Никоном. Это вполне объясняет внимание руководителей Выгореции к сочинению, посвященному опровержению названных книг. Переписывавшие текст, отнеслись к нему как к авторитетному, о чем свидетельствует не только их состав, но и старательность писцов, а также выделение киноварью заголовка и важных, с их точки зрения, фрагментов. Например, обращение к читателю: «Зри читателю в последующих трех обысканиих и объявлениих, каков порок несогласия их (книг Скрижаль, Жезл и Увет. – Н. Г.) со святыми и меж собою…» 4 Действительно, критика защитников старого обряда этих книг заключалась в указаниях на явные несоответствия утверждений, сформулированных в каждой для обоснования новшеств, внесенных в результате церковной реформы в обряд и богослужебную практику Русской Церкви, с традицией, зафиксированной в святоотеческом предании. Не менее важным аргументом в пользу отстаиваемой старообрядцами позиции служила и несогласованность суждений, высказанных в этих трех изданиях авторами, принадлежащими к официальной Церкви.
Этот список сочинения свидетельствует о том, что в основу выговцами был положен текст, написанный в XVII в., в 80-е гг., поскольку самым поздним изданием, рассматриваемым старообрядцами, был «Увет духовный». Список датируется 10-ми гг. XVIII в., когда выговцам был уже известен труд Димитрия Ростовского «Розыск о раскольнической брынской вере», но они ограничились критическим анализом только ан-тираскольнических произведений XVII в. Кроме того, в данном списке сохранились фразы, позволяющие высказать предположение о том, что основной текст сочинения написан именно в XVII в. Ярким примером может служить следующий фрагмент: «Пи-шемая же ныне новосложная от архиереов нынешняго века списания о крестном знамении, первие в Скрижали, потом же в начале Псалтырей дестевых и полудестевых. В них же досаждают православным, по древнему святых отец преданию двема персты знаменующимся, якобы по Несторию злоумному. В том отцепреданном сложении перстном разделяют во две ипостаси единого Христа» 5.
В первой фразе сборник «Скрижаль» охарактеризован, как «новосложная» книга от «архиереов нынешняго века». Следовательно, написана она могла быть только в XVII в. Скорее всего, выговцами в данном случае было использовано какое-то раннее произведение, созданное защитником старого обряда после выхода из печати «Увета духовного». Аргументом в пользу высказанного предположения может служить и очень эмоционально окрашенная антигрече-ская направленность, сохранившаяся в «Показательном списании…». В XVIII в. она будет присутствовать в поморских сочинениях, но писать об этом будут более сдержанно и расставят иные акценты.
Приведем выразительный фрагмент из части, переписанной Петром Прокопьевым: «Аще и заблудившии от чрева матерня, си-речь не очистившиися в трех погружениих с православною верою во святом крещении нынешнии грецы и глаголют лжу на православных наших патриархов, но обличается их лжа от прежде их бывших греческих православных патриархов, которыя еще не по лисам и соболем судили и на пенязи разре-шителных грамот не давали [яково же, поведают, нынешние вселенские патриархи, приезжая к Москве, деяли]» 6. В этом тексте проступает очевидное недоброжелательное отношение к «нынешним грекам», и самое главное – к «вселенским патриархам», которые продажны в отличие от прежних «греческих православных патриархов», подчеркивавших благочестие русских при учреждении на Руси патриаршества. Поясняющая фраза, соотносящая обвинение в мздоимстве с современными вселенскими патриархами, заключена в квадратные скобки, которые означают либо указание на то, что ее следует убрать, либо, что она должна дополнить исходный текст. В любом случае речь идет о редактировании, вносящем определенные смысловые коррективы.
В этом списке явно просматривается бережное отношение переписчиков к тексту, с которым они работают, поскольку внесенная правка очень деликатная, не меняющая сути сформулированной в том или ином предложении мысли. Только несколько раз писцы позволили себе добавить или вычеркнуть одно или несколько слов. Речь идет о тексте, который выговцы взяли за основу, но оформили они его по всем правилам, предписываемым учебниками риторики. Список этого сочинения, включенный в сборник Д. 74, позволил увидеть процесс коллективной работы выговцев и закономерно поставить вопрос о первоначальном авторском варианте.
Разумеется, с полной уверенностью об этом, как и об авторе обработки текста, мы сможем говорить после текстологического изучения всех дошедших до нас списков «Показательного списания на новоявльшие-ся философы и учители…». Наличие этого сочинения в сборнике Д. 74 дает основание поставить вопрос о необходимости такого исследования. Анализ текста этого списка, созданного выговскими «большаками», позволит выяснить, были они только переписчиками или одновременно и редакторами.
Авторитетность этого сочинения для Вы-гореции в 10-е годы засвидетельствована тем, что его переписали сами руководители киновии. Во второй половине XVIII столетия именно этот список поместили первым составители сборника Д. 74, определив его тематику и проблематику в целом. Все части сборника представляют собой в разное время созданные тексты, которые объединяет то, что они написаны в ходе полемики с официальной Церковью. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большая часть их помещена в автографах руководителей Выгореции – Андрея и Семена Денисовых.
Во второй половине XVIII в. выговцы собрали в одном сборнике автографы, в том числе и черновые, своих уже умерших учителей. Эти тексты явно бережно сохранялись до этого, как особо ценные, поскольку связаны с именами «большаков», которые после смерти стали особо почитаемыми, о чем свидетельствуют дошедшие литературные произведения [Юхименко, 2008. Т. 2. С. 339–393]. Сборник Д. 74 явно составлен с определенной целью, чтобы важные для защитников старого обряда сочинения, опровергающие позицию сторонников церковной реформы, были сохранены в качестве единого текста, в котором бы творческое наследие основателей пустыни было представлено наиболее репрезентативно, во всем объеме, со всеми нюансами, отражающими творческий процесс.
После «Показательного списания…», переписанного Петром Прокопьевым, Андреем Денисовым и Даниилом Викуловым, помещен черновой автограф сочинения Андрея Денисова, посвященного доказательству несправедливости утверждения, высказываемого сторонниками церковной реформы, начатой патриархом Никоном, что защитники старого обряда есть «церковнии расколники и развратники» 7. Черновой ав- тограф позволяет читателю увидеть поиски автором нужного слова, нужной интонации, когда он вычеркивает или, наоборот, дополняет написанное. В этом случае текст может восприниматься в качестве эквивалента живого слова. Возможно, включая черновой автограф в сборник Д. 74, именно это обстоятельство и учитывали составители, предполагая, что читатель таким образом сможет еще более остро почувствовать обращение к нему уже умершего основателя киновии.
В этом сочинении Андрей Денисов постарался привести аргументы против наименования представителями официальной Церкви защитников старого обряда раскольниками. В этом случае он сосредоточил свое внимание не на критике каких-то конкретных произведений, как это было в «Показательном списании…», а на выборе наиболее важного, с его точки зрения, аспекта взаимоотношений старообрядцев и «никониан». Приведя соответствующие ссылки на тексты Священного Писания и святоотеческого предания, а иногда и цитаты из них, автор провозглашает: «И от сих и инех многих Божественных Писаниих утверждаеми, не приемлем нововодства Никонова» 8.
Противников церковной реформы он представил как отстаивавших русскую православную традицию, воспринятую от греков. При этом подчеркнуто, что современные греки предали эту традицию, что выразилось в том числе и в осуждении двуперстного крестного знамения. Развивая эту тему, он ссылается на Кормчую и цитирует из вводной части беседу Феодора Иоанновича и вселенского патриарха, в которой Иеремия прославляет «благочестивое ру-сийское царьствие»: «Якоже нынешнии грецы, сами впадшии в развращение, и глаголют противно древним святым, аще кто двема персты крестится, сей арменин, проклятой еретик, отлучен от Святыя Троицы. Он же (патриарх Иеремия. – Н. Г.) тогда не точию не зазре в Росии пребывающаго благочестия, но по многой беседе, сице глаголя… твое же, о благочестивый царь, великое русийское царьствие, Третий Рим, благочестием всех превзыде. Истинно слово и всякого приятия достойно. Тако толь преславное от древних греков препохвалное благочестие, имеющееся в России до Никона. Ныне от новых греков и ученик их укаряемо и держащии то, яко расколники осуждены» 9.
В этом случае Анрей Денисов, очевидно, опираясь на сформулированный еще первым поколением защитников старого обряда аргумент, оформил его несколько иначе, не только противопоставив «новых греков» «древним», но и сделав акцент на деятельности Никона, поддержанного вселенскими патриархами. Апелляция к тексту 30-й главы «Книги о вере», воспроизведение фрагмента с пророчеством о должном состояться в 1666 г. конце света позволили ему все рассуждения направить в русло эсхатологического учения и соотнести реальные события, связанные с церковной реформой, с утверждением о якобы уже свершившемся воцарении в мире антихриста: «На сие же самое прореченное время (1666-й г. – Н. Г. ) Никон патриарх прежнее знаменование двема персты обхулил, вново же трема персты знаме-новатся предал…» 10 Перечислив все новшества, внесенные Никоном в обряд и богослужебную практику Русской Церкви, указав на их противоречие древнерусской церковной традиции, автор переходит к характеристике положения защитников старого обряда: «Тех же, новин не приемлющих, зело ярым мучителством обложиша, пытати, жгати, бити… принуждая в свое новопреда-ние, гневающеся и укаряюще и без вины раскольниками именующе, не отколовшихся ни от какова церковнаго предания, но в целости древлеправославных уставов нудящихся пребывати» 11.
Сочинение создавалось с целью опровергнуть утверждение представителей официальной Церкви, что защитники старого обряда являются раскольниками, поскольку не соглашаются признать утвержденные собором 1666–1667 гг. нововведения. Андрей Денисов постарался обосновать свое право оставаться в оппозиции. Важным аргументом для него стало следующее соображение: «И убо Никон патриарх с прочими росийскими тогдашними архиереи и иереи родилися и святое крещение восприяли в древнем благочестии и рукоположены в священство чином и уставом нашей православней вере, во всех тайнодействиих зна-менующеся и благословляеми от архиерей, слагая персты по-древнему православию, последи преложившеся в новопредания» 12.
Рассуждая таким образом, автор подводил читателя к мысли о том, что не защитники старого обряда учинили раскол, а никониане, нарушившие традицию. Перечислив один раз все нововведения и показав их несостоятельность, Андрей Денисов далее всякий раз отсылал читателя к этому подбору аргументов различными способами, например, обозначив результаты церковной реформы как «никоново новоучи-тельство». В этом контексте для читателя становилось очевидным, что Никон и его последователи являются раскольниками, а не защитниками старого обряда. Доказательством этой мысли для Андрея Денисова служил и тот факт, что эти новшества официальная Церковь вводила только благодаря «умышленному кровопроливаемому мучительству»: «И насилием к своему приобщению непокаряющихся, аки к неправому приводит» 13. Представив результаты церковной реформы в качестве «нового учения», обратив внимание на способ приобщения к нему, автор подчеркивает, что речь идет явно о «неправом» учении. Следовательно, вывод, к которому Андрей Денисов подводил читателя, заключался в том, что не защитники старого обряда, а последователи патриарха Никона явились причиной раскола в Русской Церкви и именно их с полным правом следует называть раскольниками.
Далее составители сборника поместили автограф Семена Денисова, переписавшего текст, в котором доказывалась подложность «Соборного деяния на Мартина еретика» 14. В. Г. Дружинин в своем справочнике поместил указание на это сочинение, как известное ему по единственному списку из сборника Д. 74, в разделе «безымянные» [1912. С. 394, № 523]. Ценность этого списка заключается не только в том, что он единственный, но и в том, что он позволяет уточнить, каким образом выговцы сумели в Дьяконовых и Поморских ответах представить убедительное с научной точки зрения доказательство в подложности рукописного соборного деяния, в результате чего оно
«было изъято из обращения, запечатано в сумку». В. Г. Дружинин привел его описание из Указателя для обозрения Патриаршей ризницы, составленного арх. Саввой: «№ 640. Соборное деяние на еретика Мартина Ар-менина 1157 г. перг., в коженой сумке под печатью Святейшаго Синода» [Дружинин, 1921. С. 48].
Сопоставление двух вариантов критики старообрядцами рукописного соборного деяния с применением научных методов палеографии, нашедших отражение в Дьяконовых и Поморских ответах, позволило В. Г. Дружинину сделать вывод о том, что первый является «как бы черновым наброском, а второй чистой обработкой тех же материалов, сделанной тем же автором» [Там же]. Текст, переписанный Семеном Денисовым и включенный в сборник Д. 74, представляет еще один вариант изложения внутренней и внешней критики источника. Возможно, этим и объясняется внимание выговцев к этому сочинению, в котором в более кратком и другом, по сравнению с Дьяконовыми и Поморскими ответами, виде показана вся аргументация.
В сборник включен автограф произведения Семена Денисова «Разрушение довода новых учителей, иже рукою аки Андрея апостола неподобно триперстное сложение утвержают» 15. Сочинение посвящено опровержению одного аргумента, приведенного в «Увете духовном» в качестве доказательства справедливости введения патриархом Никоном троеперстного крестного знамения вместо двуперстия: «Глаголют, яко рука святаго апостола Андреа обретеся ныне, утверждающая треперстное сложение» 16. В предисловии автор, как бы отсылая читателя к предшествующему тексту, заявил, что «мудролюбцы новейшие» пытаются доказать законность новведений «внесением неписанных свидетельств, не назна-менаных доводов и подкреплений… яково есть и о руце святаго апостола Андрея, изданное патриархом Иоакимом новосочиненное повествование» 17.
Эти вводные фразы были написаны под влиянием блистательно осуществленных старообрядцами разоблачений подлогов, предпринятых представителями официальной Церкви с целью доказать правомерность нововведений. Возможно, именно предисловие позволило составителям сборника расположить этот текст после переписанн-ного Семеном Денисовым сочинения, в котором разоблачалась подложность соборного деяния на Мартина еретика, поскольку и в том и в другом доказывалось «внесение» вновь обретенных свидетельств уже после церковной реформы. Озаглавив текст «Разрушение довода новых учителей…», автор-старообрядец расположил аргументы, руководствуясь правилами учебника риторики, в такой последовательности: «от неизвестна-го», «от невернаго», «от невозможного», «от непоследующаго», «от неизвестнаго», «от неполезнаго».
Это позволило ему в заключение поместить следующее «Надсловие»: «Но да не-многоглаголанием отягчю слышащих уше-са. Всякий человек может познати, всякий смотряяй видети, яко повесть сия темности и неизвестия исполнена есть, исполнена не-ятоверия и неудобства, исполнена противности и несогласия ко святым, исполнена неподобающаго мнения и неприличности первообразнаго изображения. Вреждающая святых апостол предания, вреждающая оте-ческия законы, вреждающая церковныя благочестия уставы. И не сия токмо повесть, но и прочая новостей законопредания сомнения мраком покрыта суть. По евангельскому неложному глаголу, вмале неверен и во мнозе неверен есть» 18.
В этом «Надсловии», как и во введении, сделан обобщающий вывод о том, что каждый «разрушенный довод», оправдывающий нововведения в церковный обряд и богослужебную практику, служит доказательством незаконности церковной реформы, начатой патриархом Никоном. Эту тему продолжал развивать помещенный составителями далее черновой автограф сочинения Семена Денисова, озаглавленного «Недоумения в разсмотрителном сочинении на поливателную книжицу» 19. В нем подробнейшим образом рассматривались и опровергались все аргументы в защиту по- ливательного крещения. Перед читателем предстает один из ранних вариантов, в котором автор только намечает контуры будущего сочинения. Как и в случае с черновым автографом Андрея Денисова, здесь у читателя вновь создается ощущение непосредственного общения с автором, поскольку перед ним предстает ход рассуждений, как автор отыскивает наиболее адекватную форму выражения мысли, т. е. весь творческий процесс.
Рассмотренные нами четыре части сборника составляют единый текст, внутренне организованный составителями в 80-e гг. XVIII столетия. Все включенные в сборник сочинения посвящены опровержению аргументов, сформулированных представителями официальной Церкви в защиту новшеств, внесенных в результате церковной реформы. Они расположены таким образом, что каждый текст вносит свой вклад в доказательство незаконности нововведений, формируя единую систему, способную служить убедительной защитой отстаиваемой старообрядцами точки зрения. Тексты, помещенные в черновых автографах, придают сборнику особое смысловое значение. Они превращают его в посредника между автором и читателем, перед которым предстает «живое» слово уже ушедших из жизни основателей и руководителей киновии.
Другие рассмотренные тексты, включенные в сборник Д. 74, не менее важны для составителей. Все они написаны или скопированы выговскими «большаками» – основателями и руководителями Выгореции. Каждый из этих списков, как мы попытались показать, позволяет поставить, а иногда и частично решить, вопрос о времени написания, а также об авторе сочинения. Все четыре части сборника логично соотносятся друг с другом и представляют ансамблевую композицию, объединенную не только идеей, но и соответствующей формой изложения. Заключительным аккордом в этом ансамбле выступает завершающий сборник текст, в котором утверждается тезис о том, что якобы наступило «время, достойное плача», поскольку в мире с 1666 г. воцарился антихрист. Это старообрядческое сочинение, написанное в последней четверти XVIII в., опубликовано по рукописи Д. 74 [Журавель, 2007]. Во вводной статье О. Д. Журавель проанализировала его содержание, охарактеризовала жанровую при- роду и представила как памятник народнохристианской литературы.
Этот текст, казалось бы, не вписывается в проблематику сборника, посвященного опровержению аргументов, приводимых представителями официальной Церкви, в защиту нововведений. Написанный, как убедительно показала во вводной статье к публикации этого сочинения О. Д. Журавель, на пересечении книжной и фольклорной традиций, он к тому же не связан с именами основателей киновии. Составители включили его в сборник Д. 74 последним не случайно. В нем совершенно в ином ключе развита эсхатологическая тема, поднятая в сочинении Андрея Денисова, который сумел соединить обсуждаемую проблему с вопросом о переживаемом времени и даже процитировал пророчество о 1666 г. из 30-й главы «Книги о вере». Сочинение о времени, достойном плача, как справедливо отметила О. Д. Журавель, отличается «последовательностью, логичностью в изложении аргументов», которая «сочетается с проникновенным лиризмом, выраженным плачевыми интонациями и целым спектром художественных средств» [2007. С. 223]. Во второй половине XVIII в. этот текст был включен в сборник явно для того, чтобы убедить читателя в том, что он живет в «последние времена». Яркая и доступная форма изложения этой идеи привлекла внимание составителей к сочинению о времени, достойном плача.
Все пять частей сборника, созданных в разное время, как мы постарались показать, были составителями не просто объединены в одной рукописи, а превращены в единый цикл. Его внутренняя организация выразилась в том, что было осуществлено продуманное композиционное расположение, обеспечившее хронологическую, тематическую и логическую последовательность изложения материала. Особый авторитет сборнику в целом придавали не только тщательно отобранные тексты, но и то, что они были связаны с именами основателей и руководителей Выгореции, которые ко времени составления сборника особо почитались наряду со святыми. Некоторые из сочинений были созданы ими, а некоторые только переписаны, но в любом случае это означало их непосредственную причастность к включенному в сборник тексту. Даже беглый анализ содержания сборника Д. 74 показывает его ценность для исследователя и перспективность обращения к этому виду старообрядческих сборников.
ABOUT THE COLLECTIONS, CREATED BY THE VYG LEADERS