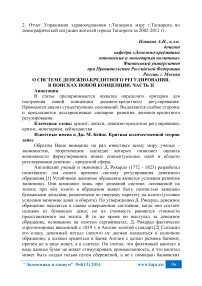О системе денежно-кредитного регулирования. В поисках новой концепции. Часть II
Автор: Новиков А.Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 4-4 (13), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка определить критерии для построения новой концепции денежно-кредитного регулирования. Проводится анализ существующих положений. Выделяются слабые стороны и предлагаются альтернативные сценарии развития денежно-кредитного регулирования.
Кредит, деньги, денежно-кредитное регулирование, кризис, монетаризм, кейнсианство
Короткий адрес: https://sciup.org/140110175
IDR: 140110175
Текст научной статьи О системе денежно-кредитного регулирования. В поисках новой концепции. Часть II
Известные имена и Дж. М. Кейнс. Критика количественной теории денег.
Обратим Ваше внимание на ряд известных всему миру ученых -экономистов, теоретическое наследие которых позволяет оценить возможности формулирования новых концептуальных идей в области регулирования денежно - кредитной сферы.
Английский ученый и экономист Д. Рикардо (1772 - 1823) разработал позитивную для своего времени систему регулирования денежного обращения.[1] Устойчивое денежное обращение является условием развития экономики. Оно возможно лишь при денежной системе, основанной на золоте; при чём золото в обращении может быть полностью заменено бумажными деньгами, разменными по твердому паритету на золото (условие усиления экономии денег в обороте). По утверждению Д. Рикардо, денежное обращение находится в самом совершенном состоянии, когда оно состоит целиком из бумажных денег, но их стоимость равняется стоимости представляемого им золота. В то же время он выступал за денежное обращение, основанное на золотых сертификатах. Д. Рикардо фактически спрогнозировал введенный с 1819 г. в Англии золотой стандарт.[2] Согласно его плану, денежный металл (золото) не должен находиться в наличном обращении, а должен храниться в Банке Англии с целью размена банкнот, причем не в виде монет, а в слитках. Он считал, что фиктивный капитал в виде ценных бумаг не может стимулировать промышленность, и что капитал может быть создан только путем сбережений, а не с помощью банковских операций. Важным элементом его научной концепции стало утверждение: изменения количества денег и изменения физического объема производства не имеют ничего общего и никогда не совпадут. Он приобрел свою репутацию именно как автор работ о денежной политике в ходе дискуссии об инфляции. Известный австрийский ученый – экономист Й. Шумпетер отмечал, что "начиная с Рикардо и до самого наивного обывателя каждый норовил превратить центральный банк в мальчика для битья; эту привычку экономисты сохранили и по сей день". [3] До недавнего времени современные экономисты в основном не обращали пристального внимания на ряд важных аргументов Д. Рикардо. В последнее время интерес к его научному наследию снова возрос. [4]
Трактовка денег как нейтрального фактора в системе воспроизводства, начиная со взглядов Дж. Ст. Милля (1806-1873), привела к обозначению такого экономического явления как дихотомия – жесткого деления денежных и реальных процессов. По его мнению, в экономике "действительно не существует более ненужной вещи, чем деньги, если не принимать во внимание связанный с ними механизм сбережения времени и труда. Этот механизм предназначен для ускорения и размаха процессам, которые протекали бы и в его отсутствие, хотя более медленно и не так масштабно. Как и все другие виды механизмов, он оказывает очевидное независимое воздействие, лишь когда выходит из строя". [4]
Экономистам от Г. Торнтона до Дж. Ст. Милля не удалось сделать теоретических выводов, они не смогли построить кредитную теорию денег как систему, так что в целом, они продолжали придерживаться монетарной теории кредита. В итоге они создали теорию, отличную от той, так и от другой. [3]
С имени Г. Торнтона (1760 – 1815) началась трактовка скорости обращения денег как переменной величины, которая колеблется в зависимости от состояния "доверия", т.е. по существу в зависимости от общих условий экономической деятельности. Она представляла собой заново открытую истину, связанную позднее с именем Дж. М. Кейнса.
Г. Торнтон ввел процент в теорию монетарного процесса и придал научную форму идеям относительно связи между деньгами, ценами и процентом.
Он соотносил количество и скорость обращения денег с процентом четырьмя способами в условиях системы золотого монометаллизма:
-
• привлечение золота из-за границы высокой ставкой процента;
-
• наличие связи между преобладающей номинальной ставкой процента и желанием населения держать на руках наличность;
-
• наличие влияния оказываемого ожиданиями будущего уровня цен на процентную ставку по кредитам;
-
• стремление процентной ставки по кредиту сравняться с ожидаемой предельной прибылью от капиталовложений (предельной эффективностью капитала).
Г. Торнтон обосновал, что банковские кредиты, увеличивающие количество средств платежа, могут скорее стимулировать рост объема производства, чем рост цен, если они вливаются в экономику с неполным использованием ресурсов в периоды депрессии, когда нет дополнительного спроса на кредиты. Теоретическое значение данного вывода весомо, поскольку вынуждает признать существование связи между массой средств обращения и объемом производства (что решительно отрицала рикардианская и строгая количественная теории). Но и после достижения полного использования ресурсов кредитная экспансия все еще может оказывать влияние слабее инфляционного. Он предвосхитил практически все, что было открыто в области политики центрального банка в течение следующего столетия ("великая хартия кредита в свободной экономике частного предпринимательства"). Разные средства платежа, по его мнению, могут на некотором уровне абстракции рассматриваться как по сути одинаковые. Он считал, что практик - банкир обычно находится под впечатлением скорее технических различий, чем глубинного сходства отдельных средств платежа. Вклад Г. Торнтона в теорию денег и денежного регулирования вплоть до Дж. М. Кейнса был забыт. [3]
Марксизм, по утверждению западных специалистов, "генетический код, эмбриональный сгусток революций XX века и обществ, порожденных ими". [5] Видный представитель немецкой экономической мысли К. Маркс (1818 - 1883) придавал фундаментальное значение ответу на вопрос, почему система товарного обмена вызывает необходимость в деньгах. Он дал развернутое обоснование внутренне необходимой связи между деньгами и стоимостью. [6] Деньги определялись как "меновая стоимость, отделенная от самих товаров и существующая наряду с ними как самостоятельный товар". Пока меновая стоимость остается общественной формой продукта, т.е. пока существует товар, деньги составляют объективную необходимость и не могут быть упразднены. С развитием товарного производства и обмена углубляется присущее товару противоречие между особенной природой товара как продукта и его всеобщей природой как меновой стоимости. Деньги рассматривались "в их полной определенности" как единство различных функций. Исследование денег К. Марксом выступало как промежуточный этап в анализе их превращения в капитал. Им была теоретически раскрыта роль товарного обмена в процессе образования денег; признание денег товаром, имеющим свою специфику; объяснение денег давалось на фоне золотого металлического обращения. Это позволило отчетливо установить трудно различимые внешне отличия денег в их функциях от более развитых форм, какими являются кредитные деньги и деньги как капитал. Важным этапом исследования денег явилось определение специфики бумажных денег как знаков стоимости и законов, регулирующих их связь с золотом и с движением товаров в процессе обращения. По его мнению, в отличие от внутреннего обращения золото в своем исходном пункте поступает в международное обращение не как деньги, а как товар с особыми потребительными свойствами. Лишь путем обмена на другие товары оно становится деньгами, превращенной формой всех товаров. По сравнению с предшественниками, интересовавшимися количественными соотношениями стоимостей товара и денег, а также законами, регулирующими это соотношение, К. Маркс обратил внимание на качественную сторону стоимостных соотношений между товаром и деньгами, проанализировал деньги диалектически, в процессе их становления. [7]
С точки зрения К. Маркса, является иллюзией положение, будто товарные цены определяются массой средств обращения и нелепа сама по себе гипотеза, что товары выступают в процессе обращения без цены, а деньги – без стоимости. Называя количественную теорию денег "пресной гипотезой" К. Маркс, по выражению Й. Шумпетера, занял позицию, что "количественная теория ценности денег и теория денег, основанная на концепции издержек производства, являются альтернативами, между которыми должен выбирать аналитик". [7] Современная увлеченность марксистскими взглядами среди западных ученых и практиков - менеджеров, в последнее время поражает воображение.
Ярким воплощением поиска научной концепции стала полемика двух теоретических школ в Великобритании XIX века при разработке принципов в области банковской деятельности. Обе известные школы (денежная и банковская) одинаково выступали против регулирования денежного обращения или какого-либо радикального контроля банковских операций и кредита. Обе решительно поддерживали золотой стандарт и регулирование обменных курсов путем свободного притока и оттока золота. Банковская школа не утверждала возможности саморегулирования средств обращения в процессе конкуренции банков. Она защищала следующие положения : конвертируемость банкнот - достаточная мера для обеспечения существования экономической системы при должной политике центрального банка; нет смысла регулировать эмиссию банкнот и при неверности первого тезиса, поскольку те же проблемы вызовут и банковские вклады.
Денежная школа хотела регулировать эмиссию банкнот именно с целью сохранения денежного обращения автоматическим, и предоставить полную свободу банкам, включая центральный. Банкноты Банка Англии денежной школой рассматривались не как кредитный инструмент и платежное средство, возникшее в процессе торговли, а как резервные деньги. Тем самым, по ее утверждению, конвертируемость банкнот нельзя обеспечить, не прибегая к особым ограничениям на их эмиссию; банкноты центрального банка должны рассматриваться как золотые сертификаты (это не кредитные инструменты, а резервные деньги).[3]
Влияние денежной школы было очень сильным на протяжении длительного времени. Приверженность вексельной теории банковского дела в значительной степени медленно меняло смысл управления денежным оборотом. Контроль над денежным оборотом продолжал означать не полностью, но, в первую очередь, контроль над учетной ставкой центрального банка. Технология эффективного управления учетной ставкой развивалась долго, и экономисты медленно осознавали происходящие в денежном обороте процессы. Влияние учетной ставки оценивалось через давление на цены, через ограничение кредита (почти эквивалентного количеству коммерческих векселей, представленных к учету); привлечение капиталов из-за рубежа или возвращение отечественных капиталов. Точно количественно определить потребность в ссудах или учете векселей было невозможно, и реальная величина спроса заемщиков одинаково зависела и от склонности банков к предоставлению кредитов и запрашиваемой ими процентной ставки, и от спроса заемщиков на кредиты. Практика финансирования текущей торговли – учет надежных краткосрочных коммерческих векселей – не гарантировала стабильности цен или экономической ситуации в целом, или в условиях падения уровня ликвидности банков. Внимание к объекту финансирования (текущей товарной сделке) и к качеству участвующих в ней кредитных инструментов (надежных векселей) не избавляло центральные банки от необходимости следить за общей суммой задолженности. Это подразумевало неадекватные подходы в теории учетной ставки. [3]
Английский экономист Х. Уизерс в 1909 г. осуществил смелую постановку вопроса о производстве денег банками. Данная теория рассматривалась как новая и, в некоторой степени, считалась еретической доктриной. В то время преобладала вексельная теория банковского дела, и финансирование текущей торговли являлось краеугольным камнем банковского кредита.
Вскоре американский ученый – экономист И. Фишер в своей книге 1911 г. "Покупательная сила денег" фактически осветил лишь один аспект (и далеко не самый важный) количественной теории денег. [8] Его незаслуженно представляют как сторонника определенной жесткой формы количественной теории. Он не являлся сторонником косного и механистического типа количественной теории денег. Он был ее приверженцем, но лишь в специфическом смысле. Концепция скорости обращения денег, по его мнению, зависит от выбранной концепции денежной массы.
И. Фишер ввел чековые депозиты в формулу обмена и принял две дополнительные гипотезы о существовании устойчивых соотношений между:
количеством наличных денег и количеством ликвидных средств на чековых счетах;
резервами банковской системы и общей суммы чековых депозитов при равновесии и для краткосрочных периодов1.
Английский ученый А. Маршалл (1842 - 1924) как великий экономист на рубеже XIX - ХХ веков, который всегда несколько чрезмерно пугался того, что его сочтут далеким от практики или умнее "делового человека" часто не настаивал на своих убеждениях. По его мнению, с годами становится все яснее, что должна существовать международная валюта и что - сам по себе глупый – предрассудок, будто золото является "естественным" выразителем стоимости, сослужил хорошую службу.
"Я сам себя провозгласил любительским врачевателем денег, однако, не могу выдавать себя за сколько-нибудь серьезного специалиста в этом качестве. Скоро меня не станет, но если бы у меня была возможность, я задал бы вопрос вновь пришедшим в эту божественную сферу, а удалось ли им обнаружить какое - либо лекарство от болезней денег". [9]
Общая теория экономического равновесия, по его убеждению, была подкреплена и сделана эффективной в качестве системы научного познания двумя глубокими дополнительными концепциями – а именно, теориями "предела" и "замещения".
Классическая макроэкономическая теория в лице А. Маршалла ограничивала функции денежной политики (регулирования оборота денег) стабилизацией цен.
Учение великого англичанина Дж. М. Кейнса (1883 - 1946) выделяет его из плеяды экономистов – мыслителей. Подход Кейнса против основ, на которых выросла экономическая теория, отличался тем, что позволял сохранить сферу деятельности специалистов по деньгам, а не предполагал превращение их в экономистов широкого профиля. [10]
В соответствие с его утверждением, фактически три поколения экономистов признавали, что одни причины вызывают прогрессивное и длительное изменение стоимости денег, другие – колебательные движения в их пределах, а последние - причины вначале влияют кумулятивно, но по истечении определенного времени создают условия для обратного движения.
Дж. М. Кейнс подверг критике идею существования стабильной функции спроса на деньги. Для получения целостной картины того, как работает экономика, необходимо было, по его мнению, объединить анализ роли денег, процентных ставок и совокупного предложения. [4] Дж. М. Кейнс выдвинул новую систему взаимозависимости денежных и реальных факторов, где роль основного передаточного звена денежных импульсов играла норма процента, оказывающая влияние на процессы накопления и инвестирования капитала. Деньги, благодаря такому подходу, заняли одно из центральных мест в механизме установления динамики экономического равновесия.
В кейнсианском анализе денег важную роль стало играть положение о "ликвидной ловушке" – гипотетической ситуации, когда в условиях глубокой депрессии никакие меры центрального банка по дополнительному увеличению денежной массы не ведут к снижению нормы процента. В случае образования ликвидной ловушки влияние денежной политики на норму процента и на инвестиции полностью исчезает. В последнее время исследователями ставится под сомнение возможность ловушки ликвидности в реальной экономике. [4]
Теория предпочтения ликвидности положила начало развитию портфельного подхода, связывающего спрос на деньги с проблемой оптимальной структуры активов, образующейся при распределении субъектом своего дохода (богатства). Обеспечение максимального дохода при минимуме риска – таков основной принцип оптимизации. Кейнсианская теория процента фактически означала: возникновение процента в результате взаимодействия спроса и предложения денег, а не облигаций; формулирование теории в категориях запаса денег, а не их потока; определение процента как психологического феномена, как плата за расставание с ликвидностью, а не вознаграждение за сбережение. При устойчивом соотношении между процентными ставками по разным видам проводимых кредитных операций, проведение денежного регулирования упрощалось.
Большой недостаток количественной теории денег, по мнению Дж. М. Кейнса, заключался в том, что она не разграничивала изменения цен, являющиеся функцией изменений выпуска продукции , и изменения цен, которые выступали как функция изменений единицы заработной платы. Полезно напомнить взгляды Дж. М. Кейнса, касающиеся количественной теории денег. [11] Необходимо, по его мнению, бросить взгляд на то, каким образом изменения количества денег оставляют свой след в экономической системе.
Если n = p (k+rk´), где n - количество бумажных денег, p - цена единицы потребления – индекс стоимости жизни, k – единица потребления, r – часть резервных обязательств банков, k´- вклады, то увеличение или уменьшение n могло определить как инфляцию и дефляцию наличных денег, уменьшение или увеличение r как кредитную инфляцию или дефляцию. Увеличение или уменьшение k и k´ свидетельствовало об инфляции или дефляции реальных банковских вкладов. Это означало признание за эмиссионным банком весьма важной обязанности безусловного и действительного овладения n и r. Вторая обязанность центрального банка - применение принудительного регулирования к n и r для выравнивания изменений k и k´, путем соответствующих изменений величин n и r можно было до известной степени содействовать стабилизации p. Приверженцы "здоровых принципов" денежного обращения переоценивали необходимость поддерживать на неизменном уровне n и r и аргументировали это так, как будто денежная политика сама по себе может дать надлежащие результаты.
К тому времени теория деятельности центрального банка представляла собой стереотипный культ учетной ставки банка, механизм действия которой анализировался почти без учета наблюдаемых фактов. Согласно ее центральный банк лучше всего служит интересам развития экономики, когда следит за собственной прибылью (в этом утверждении было больше правды, чем склонны были бы допустить современные исследователи). Развитие отдельных методов контроля за кредитом, как рационирование кредита, независимо от положения заемщика и попытки повлиять посредством денежного рынка на поведение коммерческих банков, позволило сформулировать основы классической теории политики центрального банка. [12]
Прогресс в объяснении сущности денег в 1920-е и 1930-е гг. в значительной степени заключался в отказе от всеобъемлющих агрегатов, характерных для анализа уравнения обмена и во введении в явном виде переменных, выражающих "косвенные влияния".[3] В дальнейшем теория политики центрального банка претерпела определенные изменения. [13]
Определяющим постулатом стало утверждение, что центральный банк мог бы предотвратить или остановить отток золота (денежного металла), подняв свою процентную ставку, поскольку ее увеличение приведет к сокращению займов, а сокращение займов будет означать меньший объем сделок, меньшее количество рабочих мест и снижение цен. В свою очередь низкие цены приведут к увеличению экспорта и сокращению импорта, что изменит платежный баланс, а, следовательно, и валютные курсы. [3]
Й. Шумпетер обратил внимание на то, что теоретики, "особенно увлеченные "планированием" часто предаются порочной практике получения "практических" результатов из небольшого количества функциональных отношений между немногими экономическими агрегатами. При этом они пренебрегают тем фактом, что подобные аналитические установки изначально не дают возможности принять в расчет более глубокие факторы, более тонкие соотношения, не поддающиеся взвешиванию и измерению, но при этом более важны для культурной жизни нации, чем те, которые можно взвесить и измерить"2. [3]
Управление денежной системы не сводилось к регулированию обращения национальной валюты. Оно распространялось и на валютные курсы и что еще важнее - на банковский кредит. Это управление не оставалось на уровне планов. К нему все активнее стали прибегать на практике центральные банки. Чрезмерное подчеркивание значения, которое придавалось тогда игре под названием "золотой стандарт" ради самой игры, вводило в заблуждение не меньше, чем трактовка денежных систем, существующих до 1914 г., как автоматических. [3]
Научная филиация (изменение, которое не является простой реакцией на изменение объективных обстоятельств) идей начинает проявляться все более отчетливо в процессе накапливания научных знаний. Теория денег всё чаще начинает изображаться как элементарный курс макроэкономического анализа (Дж. Робинсон). Теоретики денег , как считалось , продвинулись достаточно далеко от простой классической модели с ее предпосылками совершенной конкуренции и полноты информации.[4] Эволюционный характер возникновения новых методов и результатов исследований сделал их похожими на новые формулировки старых положений. Не удавалось развить и систематизировать научные завоевания в форме, приемлемой для всех экономистов, так, чтобы все допущения и приложения были хорошо разработаны и представлены в наглядной форме.[4]
Последующее развитие денежной теории сильнее было подвержено воззрениям традиционной количественной теории, что собственно и сказалось на формировании денежно – кредитной политики центральных банков. [3]
Швейцарский экономист Л. Вальрас (1834 – 1910), долго работавший во Франции, являлся едва ли не первым оппонентом количественной теории денег. [14]
Он был первым экономистом, работавшим определенное время в банке и разработавшим полную теорию биметаллического стандарта при фиксированном соотношении ценности золота и серебра, выступая создателем современных представлений о деньгах, которые являлись частью его теории общего экономического равновесия. Его анализ денег был встроен в систему общей экономической теории вместо того, чтобы разрабатываться независимо и затем прилагаться к ней. Для подавляющего большинства экономистов вальрасианская теория денег долгое время просто не существовала.
По утверждению Й. Шумпетера, из всех частей вальрасианской системы теория денег претерпела наиболее значительные изменения. Выведение им постулата том, что ценность денег находилась в обратной зависимости от их количества, умозрительно выводилась из принципа
XIX века с возможностью замедления ее экономического развития).
предельной полезности. Он видел феномен создания кредита банками, но рассматривал его как злоупотребление, которое должно пресекаться. [3]
Имя австро – американского ученого Л. Мизеса (1881 - 1973), прежде всего, связано с научным обоснованием абсурдности и ущербности существования социализма как экономической системы. [15,16] Л. Мизес являлся главным критиком научной концепции уровня цен, которая отрицала возможность какого бы то ни было влияния автономных изменений количества денег в обращении на стоимость денег. Им утверждалось, что есть взаимосвязь между изменениями стоимости денег и изменениями в соотношении между спросом на деньги и их предложением. Им был разработан феномен цикла деловой активности, увязанный с собственной денежной теорией. [3] Сохраняя традиции немецкого ученого К. Менгера (1840 - 1921) в области последовательного субъективизма и методологического индивидуализма, неприязни к математике и функциональному анализу, он проявлял повышенный интерес к проблемам времени и пространства. В его методологии, известной как проксиология, подчеркивается значение индивидуального выбора и преднамеренного человеческого действия.
Отметим получившая мировое признание оценка, произведенная английским ученым – экономистом Дж. Робинсон (1903 - 1983), идентичности теории денег теории общественных агрегатов и, в конечном счете, теории общего объема производства, выраженного в денежных оценках потребления и инвестиций. [3]
В дальнейшем научная разработка гибридной модели кейнсианско -неоклассического синтеза сочетала в себе элементы различных подходов и была усовершенствована с помощью методологии математического моделирования процессов в сфере оборота денег. [17,18] Важным стало обоснование деления денег на "внешние" и "внутренние" в связи с выяснением вопросов о включении денег в категорию совокупного общественного богатства и роли денег в моделях общего экономического равновесия. [19]
Определение спроса на кассовые остатки и денежной эмиссии как важных факторов, показывающих состояние денежной сферы, стимулировало длительную эволюцию экономико – математических моделей спроса на деньги.
Кейнсианско – неоклассический синтез выразился в предложении Дж. Р. Хикса создать простую равновесную модель, где случай Кейнса (преобразование традиционной функции спроса на деньги, используя в качестве важной независимой переменной норму процента) выглядело частным вариантом более общей неоклассической по духу системы. Это фактически означало, по мнению многих исследователей, перерождение учения Дж. М. Кейнса.
Важными чертами характеристики кейнсианско – неоклассического синтеза стали:
-
• максимизация полезности как основной принцип, направляющий
действия субъекта рынка;
-
• устранение предпосылки негибкости цен и замена ее эффектом
реальных кассовых остатков, обеспечивающий автоматический прирост спроса в случае падения товарных цен и выход из кризиса;
-
• акцент на проблеме экономического равновесия при полной
занятости рабочей силы;
-
• использование закона Л. Вальраса для связывания воедино
рынки денег, облигаций, товаров и рабочей силы.
Список литературы О системе денежно-кредитного регулирования. В поисках новой концепции. Часть II
- Афанасьев В.С. Давид Рикардо. -М.: Экономика, 1988;
- Аникин А. В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей -экономистов до Маркса. -4-е изд. -М.: Политиздат, 1979;
- Шумпетер Й. А. История экономического анализа. В 3-х ТТ. -Пер. с англ. -СПб: "Экономическая школа", 2001;
- Миллер Р. Л. Ван -Хуз Д. Д. Современные деньги и банковское дело. -Пер. с 3-го англ. изд. -М.: Инфра -М, 2000;
- Гальчинский А.С. К. Маркс и развитие экономической мысли Запада. -М.: Экономика, 1990;
- Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. -Пер. с англ. -М.: Изд-во МГУ; Инфра-М, 1997;
- Всемирная история экономической мысли. В 6-ти ТТ. -М.: Мысль, 1988;
- Фишер И. Покупательная сила денег. Пер. с англ. -М.: Дело, 2001;
- Маршалл А. Принципы экономической науки. -Пер. с англ. -М.:Прогресс-Универс, 1993, С. 28.
- Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. -Пер. с англ. -М.: Прогресс-Универс, 1993, С. 275.
- Кейнс Дж. М. Трактат о денежной реформе/Избранные произведения. -Пер. с англ. -М.: Экономика, 1993, СС. 126 -133, 357.
- Смит В. Происхождение центральных банков. -Пер. с англ. -М.: Институт национальной модели экономики, 1996,
- Blinder A. Central banking in theory and practice. -Cambridge (Mass.); L.: MIT press, 1998. Рец.: Финансовый бизнес, 2001, № 1;
- Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии или теория общественного богатства. -Пер. с англ. -М.: Изограф, 2000;
- Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность. -Пер. с англ. -М.: "Дело", 1993;
- Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. -Пер. с англ. -М.: "Catallaxy", 1994.
- Бураков, Д.В. Несовершенные кредитные рынки: историческая ретроспектива/Д.В.Бураков//Финансовый бизнес. -2014. -1(168).-С. 70-73;
- Бураков, Д.В. Эндогенное предложение денег и гипотеза финансовой хрупкости/Д.В.Бураков//Вопросы экономических наук. -2014. -5(69).-С. 31-33;
- Бураков, Д.В. Кредитный риск и стадное поведение: взаимосвязь и методы идентификации/Д.В.Бураков//Управление риском. -2014. -№ 1.-С. 58-61.