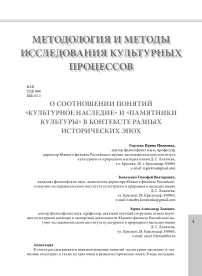О соотношении понятий "культурное наследие" и "памятники культуры" в контексте разных исторических эпох
Автор: Горлова Ирина Ивановна, Коваленко Тимофей Викторович, Зорин Александр Львович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается взаимоотношение понятий «культурное наследие» и «памятник культуры», а также их трактовки в разные исторические эпохи. В ходе исследования устанавливается, что в современную эпоху культурное наследие начинает пониматься как важный экономический ресурс, а реликты прошлого воспринимаются как продукты потребления, в результате чего создается «индустрия наследия», в центре внимания которой оказываются сегодняшние интересы людей, что влечет за собой инструментализацию прошлого и отказ от его аутентичного восприятия, выдвижение на первый план развлекательных элементов и преднамеренное искажение исторической правды
Культурное наследие, памятник культуры, культурный ресурс, культурное наследие как "процесс создания значений", культурное наследие как продукт потребления
Короткий адрес: https://sciup.org/170173925
IDR: 170173925 | УДК: 008
Текст научной статьи О соотношении понятий "культурное наследие" и "памятники культуры" в контексте разных исторических эпох
Второй тип вторжения во многом является противоположностью первого, поскольку живущий четко осознает, что прошедшее прошло. Но оно как будто разговаривает голосом из прошлого и в этом смысле внятно вторгается в настоящее как нечто сохранившееся в воспоми-4 нании. Так дело обстоит со всем, что «получают из рассказов, что продолжает жить в семейных и местных преданиях, в легендах и анекдотах, а также с тем, о чем напоминают памятники, постройки, руины, скульптуры» [Гартман Н. С. 640]. Этот тип соответственно можно назвать «внятным вторжением». Свое историческое прошлое каждый народ, как правило, сохраняет в обеих формах, которые в реальности взаимно перекрывают друг друга.
Но, как известно, в настоящее вторгается не всё прошедшее, а лишь то, которое является актуальным для современности. «… Легче всего сохраняется то, что согласуется с какой-либо постоянной потребностью, с непреходящей проблемной ситуацией, с общечеловеческой склонностью» [Гартман Н. С. 643]. При этом также надо учитывать, что в человеческой истории существовали, с одной стороны, эпохи, верные традициям, сохраняющие старое ради него самого, a с другой, — эпохи, крайне негативно относящиеся к укоренившимся издавна нравам и обычаям и стремящиеся в силу этого подвергнуть их резкой критике. Стало быть, для первых прошлое оказывалось благонадежным и священным, для вторых же, напротив, — чем-то полностью отжившим и отягощающим. Наиболее явными антиподами в этом смысле являются эпоха Средневековья, безгранично почитающая традиции, и эпоха Просвещения, подвергающая всё безжалостной критике Разума и жаждущая существенных новаций во всех сферах жизни. Что касается нашего времени, то здесь человек не является ни увязшим в традициях и ищущим в них социальную стабильность и безопасность, как это было в домодернистский период; ни отрицающим и отбрасывающим традиции, представляющие для него всего лишь отживший свой век и безнадежно устаревший хлам, как это было в эпоху модерна. «Наши отношения с прошлым, традициями, наследием сегодня амбивалентны, неощутимы и нестабильны. Прошлое опять манит, завлекает, но в то же время отталкивает, отвращает, вызывает сомнения» [Чепайтене Р. С. 267].
Такая экзистенциальная неуверенность людей эпохи постмодерна вновь проблематизирует, казалось бы, известные и устоявшиеся в своем значении понятия, такие, как «памятники», «на- следие», «наследство», «ценности». Уточнение смысла данных понятий оказывается важным не только в теоретическом плане, но и с практической точки зрения, поскольку позволяет установить критерии, коими следует руководствоваться при отборе из всех реликтов прошлого того, что может выступать в качестве культурного наследия, требующего охраны и защиты.
В современной науке в этой связи было сформулировано довольно четкое понимание смысла данных понятий. «Наследство — то, что нам оставляет прошлое; наследие — то, что мы берем из прошлого и используем как собственность, а ценность культурного наследия — то, что мы сами выбираем из культурного наследия для использования и хранения на будущее» [Чепайте-не Р. С.19–20].
С учетом вышеизложенного следует особо остановиться на соотношении понятий «памятник» и «наследие». Латинское слово monumen-tum, производное от глагола «monere» (помнить), первоначально означало вещь, предназначенную что-либо напоминать, или предупреждало не забывать. Стало быть, памятник — это не что иное, как сигнал для памяти, пробуждающий какое-то воспоминание. Со временем бытовой смысл этого слова отходит на второй план, а на первое место выдвигается значение, которое вполне правомерно назвать археологическим, т. е. памятник трактуется как след культуры прошлого. Неслучайно одним из фундаментальных критериев «памятниковости» стал рассматриваться возраст объекта: причем чем древнее считался памятник, тем больше он ценился. В ХХ в. наряду с археологической ценностью (исторической информативностью) начинают учитываться зрелость его формы (художественная ценность), уникальность или индивидуальность (неповторимость).
В отличие от термина «памятник», который уже значительное время назад был введен в научный оборот, понятие «наследие» стало применяться относительно недавно. Оно получило широкое распространение в научной литературе только в 80-е гг. прошлого века. Если слово «памятник» в смысловом плане указывает на прошлое, то слово «наследие» служит для выражения преемственности, подразумевая, прежде всего, акт приема-передачи чего-то от одного поколения к другому, т. е. обозначает преемственность поколений в историческом процессе.
В настоящее время всё еще бытует мнение, будто культурное наследие не что иное, как материальные реликты, которые дошли до нас из более или менее отдаленного прошлого. Наиболее часто это наследие отождествляется с уникальными памятниками истории или культуры, ценность которых определяется их редкостью и красотой. Подобный взгляд можно назвать элитным. Он берет свои истоки во второй половине XIX в., когда культурное наследие по большей части отождествлялось с уникальными произведениями искусства (живописи, архитектуры и т. д.), а также с материальными следами наиболее значимых исторических событий — например, местами крупных сражений. Аристократии прошлых веков, как правило, был свойственен повышенный интерес к истории собственного рода, ибо социальный статус аристократа напрямую зависел от древности его титула. Неудивительно, что представители аристократических кругов наиболее активно участвовали в исследованиях, касающихся культурного наследия и тем самым «заразили» любовью к древностям широкие общественные слои. Исключительный статус памятника как уникальной культурной ценности определял высокий социальный или даже политический престиж его владельца, способствовал легитимации и возвеличиванию его власти. Превознесение культурного наследия того или иного народа всегда использовалось для формирования его национального сознания и собственной идентичности. Большую роль здесь играла (и продолжает играть) мифология со своими героями и легендами, выдающимися историческими событиями, с помощью которых конструируются символы, становящиеся средствами государственной репрезентации.
В настоящее время концепция культурного наследия как некой совокупности выдающихся памятников прошлого претерпевает существенную модификацию. Широкое распространение получает точка зрения, согласно которой наследие, хотя и является отражением культурных ценностей того или иного общества, но сами эти ценности не имманентны объектам или событиям наследия. По утверждению Д. Mуньери, «культурное наследие обращается к нам через ценности, которые ему присваивают люди, поэтому нет иного способа, как понять и интерпретировать материальное только через нематериальное» [Munjeri D. P. 332.]. Подобное признание нематериального характера любого наследия закономерно приводит к мысли о том, что последнее (наследие) есть «процесс создания значений», в силу чего ценности утрачивают свою незыблемость, становясь, как следствие, спорными, т. е. зависящими от того, принимают их или отклоняют современные индивиды или социальные общности.
Становится понятным, почему проблема культурного наследия обостряется именно в периоды социальных кризисов или в так называемые переходные эпохи. Дело в том, что именно в это время наиболее существенно подвергаются коррозии привычные ценности и общественные нормы. Это ведет к пересмотру традиционных способов жизни и ломке устоявшихся связей. Одной из разновидностей такого пересмотра может оказаться как физическое уничтожение реликтов прошлого (например, разрушение Бастилии во времена французской революции), так и признание важнейшей частью наследия того, что таковым ранее не считалось (дом Ульяновых в Симбирске в годы советской власти).
В одной из своих работ французский социолог П. Бурдье сделал утверждение о том, что, помимо экономического и политического, имеется еще культурный капитал [Бурдье П. С. 245], в качестве которого могут выступать не только материальные объекты или произведения искусства, но и свойственные тому или иному обществу стандарты эстетического вкуса и т. д. В русле этих размышлений в настоящее время наследие всё больше начинает пониматься как своего рода экономический ресурс, который представляется особенно важным для развития регионов. При ориентации на рынок реликты прошлого воспринимаются как продукт потребления, направленный прежде всего на удовлетворение спроса потребителя и отобранный посредством использования критериев утилитарности и рентабельности.
По убеждению некоторых специалистов, в качестве ресурсов наследия, потенциально пригодных для создания продуктов «индустрии наследия», могут стать, наряду с сохранившимися реликтами прошлого, пестрая амальгама исторических событий и лиц, а также калейдоскоп мифологических, фольклорных и литературно-художественных ассоциаций. При этом прошлое предстает как своеобразная кладовая, обладающая неисчерпаемыми возможностями.
Примечательно, что различные элементы этого потенциально неисчерпаемого наследия получают возможность использования в разное время и в любых местах, самыми разными людьми и в разных целях. Одним словом, в центре внимания теперь «оказываются сегодняшние интересы людей, а не материя исторических реликтов» [Чепайтене Р. С. 171]. Ориентация на потребителя при определении культурного наследия в корне меняет понятие его аутентичности. Теперь уже не историческая правда сама по себе, а обладающий определенными вкусами и пристрастиями потребитель делает продукт для себя аутентичным. Если ранее собирание и использование культурного наследия считалось в основном делом аристократии и узкого круга специалистов, то в эпоху постмодерна всё больше возрастает число потребителей культурной продукции, вышедших из более низких слоев общества, что порождает, с одной стороны, демократизацию культуры и, в частности, культурного наследия, а с другой — его несомненную вульгаризацию.
Инструментализация прошлого и использование его реликтов в коммерческих целях в последние десятилетия однозначно возрастает. Постоянно находящимся в состоянии стресса людям рынок предлагает временно забыться, погрузившись в своеобразное «псевдопрошлое», представляющее собой некую смесь суррогатов далекого «золотого века», «ностальгии по старине», а также естественности, экологичности и психологической устойчивости.
Современные технологи от культуры в угоду вкусам потребителя готовы игнорировать не только историческую правду, но и «этическое измерение» наследия, которое прежде было призвано учить людей на жизненном опыте прошлых времен. Вместо этого на первое место выходят развлекательные элементы, уже не только материально, но и морально «стерилизованного» наследия, которое не требует от потребителя «культурного продукта» ни самостоятельности мышления, ни какой-либо ответственности. По существу, в настоящее время утрачивает свое значение оппозиция понятий «культурное наследие» и «природное наследие». Если в 70-е гг. прошлого века по вопросу об отношении между людьми и окружающей средой существовали две принципиально разные позиции — биоцентрическая и антропоцентрическая, первая из кото- рых превозносила изначальную ценность дикой или первозданной природы, а вторая — важность культурных достижений человечества, то с введением в оборот понятия «культурный ландшафт», олицетворяющего собой общее творение природы и человека, начинает доминировать утверждение, что природа и культура существуют в неразрывной связи друг с другом, а значит, природа и ее ценности могут рассчитывать на выживание только при активном содействии общества и культуры.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что понятия «памятник культуры» и «культурное наследие» являются взаимо-пе-ресекающимися и в повседневном словоупотреблении зачастую взаимозаменяемыми. И всё же вкладываемые в них смыслы не являются тождественными. Если слово «памятник» мы употребляем для того, чтобы подчеркнуть уникальность и элитарный характер того или иного объекта, то понятие «наследие» сопрягается в нашем сознании с такими свойствами, как доступность, демократичность и универсальность, в силу чего оно предстает как индикатор реликтов, доставшихся людям из прошлого. Данный термин применяется не только к любым объектам или артефактам прошлых эпох, но и одновременно указывает на их связь с современностью. Слово «памятник» вызывает прежде всего ассоциативные связи с прошлым, ибо по определению ему присуще о чем-то напоминать; понятие «наследие» как акт приема-передачи от прошлых поколений к нынешнему и последующим больше обращено в настоящее и будущее.
Если вплоть до конца 80-х гг. минувшего столетия большинство специалистов довольствовались использованием термина «памятник», то на рубеже XX–XXI веков они всё чаще употребляют словосочетание «культурное наследие». И это не случайно, потому что данное понятие способно охватить гораздо больше аспектов и объектов современной культуры, к которым в прежние времена было совершенно не приложимо название культурные ценности. Достаточно упомянуть такие следы ушедшей уже в прошлое индустриальной эпохи, как шахты, заводы, доходные дома, ангары и т. д. Всё это вряд ли можно считать памятниками культуры в традиционном понимании, однако, вполне можно использовать как доставшееся из прошлого наследие в развлекательных и коммерческих целях.
Список литературы О соотношении понятий "культурное наследие" и "памятники культуры" в контексте разных исторических эпох
- Бурдье П. Практический смысл / Пер. с франц. и общ. ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2001. 562 c.
- Гартман Н. Проблема духовного бытия / Пер. с нем. Н. А. Малинкина // Культурология. ХХ век: Антология. М.: Юрист, 1995. С. 608-647.
- Чепайтене Р. Культурное наследие в глобальном мире. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2010. 296 с.
- Munjeri D. Tangible and intangible Heritage: from Difference to Convergence // Cultural Heritage. Critical Concepts in Media and Cultural Studies. Vol. 4. London: Routledge, 2007. P. 324-336.