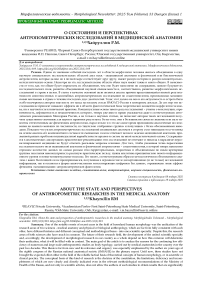О состоянии и перспективах антропометрических исследований в медицинской анатомии
Автор: Хайруллин Р.М.
Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter
Рубрика: Проблемные статьи
Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Одним из значимых событий последних лет в области морфологии человека явилось объединение в одну научную специальность исследовательских областей двух наук - медицинской анатомии и физической или биологической антропологии, которые далеко не в полной мере соответствуют друг другу, имеют разную историю и разную концептуально-методологическую основу. Несмотря на это, исследовательские области обеих наук имеют также и много общего. В зависимости от того, как это общее будет определять их объединение, чем оно будет наполнено по содержанию, зависит будущее их исследовательского поля, развитие объединенной научной специальности и, соответственно, развитие морфологических исследований в стране в целом. В статье в качестве основной цели является анализ причин продолжающейся низкой результативности многочисленных и масштабных антропометрических исследований по соматотипологии, производимых медицинскими анатомами в стране в течение последних двух десятилетий. Тезис этот далеко не нов и его актуальность и острота была особо подчеркнута автором еще шесть лет назад на восьмом съезде НМОАГЭ России в пленарном докладе. До сих пор эти исследования не приносят никакого эффекта ни в области фактологической базы теоретических концептов морфологии человека, ни в научной или клинической практике. Концептуальная основа такого рода исследований - учение о конституции, ограниченность, дефицитность и незаконченность которого, теперь уже явно и прямо указывается даже в соответствующих методических рекомендациях Минздрава России, а не только в научных статьях, не позволяет авторам таких исследований получить существенно значимые для науки и практики результаты. Более того, они в большинстве своем не знакомы или мало известны отечественным же физическим антропологам, параллельно и в это же самое время проводящим аналогичные исследования на намного меньших по численности, но тщательно отобранных группах и популяциях с более обоснованными выводами. Показано что уклон антропометрических исследований медицинских анатомов в сторону схем типизации тела человека на основе анализа его компонентного состава или смешанных схем не отвечают целям и задачам медицинской анатомии, призванной решать проблемы индивидуальной вариабельности органов и систем на иной методологической основе. Содержащиеся в анатомических диссертациях практические рекомендации этих исследований не отвечают и никогда в парадигме персонализированной медицины не будут отвечать реальным запросам клиники. Для того, чтобы указанная точка пересечения исследовательского поля медицинской анатомии и физической антропологии - соматотипология, в которой теперь накоплено огромное количество данных по самым разным этно-территориальным, возрастным и объединенным по иным критериям группам населения наконец принесла реальную практическую пользу, нужна аналитика принципиально нового информационного уровня и новые концептуальные подходы. Без такого, соответствующим образом методологически обоснованного анализа с каких бы позиций он не предпринимался, полученная в огромном числе диссертационных (и не только) исследований информация, так и останется в форме многочисленных констатирующих цифровых баз данных, отражающих лишь эффект феномена «медицинизации» антропометрической фактологии.
Анатомия человека, соматотипология, антропометрия, научная специальность, физическая антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/143184762
IDR: 143184762 | DOI: 10.20340/mv-mn.2025.33(1).919
Текст научной статьи О состоянии и перспективах антропометрических исследований в медицинской анатомии
Приближается время очередного форума профессионального научного медицинского сообщества морфологов, последний, восьмой из которых, состоялся в 2019 году в городе Воронеже. Среди прошедших за шесть лет событий, имеющих значение для оценки достижений отечественной морфологии, ее состояния, анализа перспектив развития, есть такие, которые, как минимум, в течение ближайших пяти лет, согласно соответствующим нормативным документам, будут существенным образом определять ее будущее. Как максимум, они также определяют состояние отечественной морфологической науки и в текущей ситуации. Одним из таких событий явилось объединение в одну научную специальность исследовательских областей двух наук - медицинской анатомии и физической или биологической антропологии, которые далеко не в полной мере соответствуют друг другу, имеют разную историю и разную концептуально-методологическую основу. Несмотря на это, исследовательские области обеих наук имеют также и много общего. Совершенно очевидно, что в зависимости от того, как это общее будет определять не только формальную сторону их объединения, но и чем оно будет наполнено по содержанию, зависит будущее их исследовательского поля, развитие объединенной научной специальности и, соответственно, развитие морфологических исследований в стране в целом.
Несколько слов следует сказать о формальной и сущностной стороне наименования и содержания паспорта этой, в некотором смысле новой, научной специальности. С формальной точки зрения переименование и объединение ис-
Article received 09 January 2025 Article accepted 29 January 2025
С сущностной точки зрения в рамках научных категорий и понятий теории системной, уровневой, иерархической организации живой материи [3], непосредственно отражающейся в существующей классификации биологических наук и, соответственно, в перечне научных специальностей, анатомия и антропология как науки различаются. Это различие проявляется в том, что объектом их изучения являются разные структурные уровни живого одного и того же биологического вида. Физическая антропология как наука «популяционного уровня» о виде человека разумного в концепции структурных уровней на уровень (или иерархическую ступень по объекту изучения) находится «выше» анатомии, как науки «организменного уровня». Подробно, различные аспекты общих интересов медицинской анатомии и физической антропологии нами были изложены в одной из глав монографии, посвященной теоретическим концептам современной анатомии человека [4]. Могут ли обе эти науки о человеке существовать параллельно на единой научной платформе или все же при условии использования неких принципиально единых теоретических концептов, они каким-то образом должны быть соподчинены и(или) обладать кросс-научными взаимосвязями?
Причисление физической антропологии, по своей сути биологической науки или биологической части социаль- но-исторической по своим корням науки к наукам медико-биологическим является достаточно спорным. Среди различных причин, способствующих интуитивной, в том числе и формальной интеграции знаний о морфологии человека в рамках медико-биологической отрасли наук в современной действительности очевидно не последнюю роль сыграл и феномен так называемой «медицинизации» наук [5]. Специфика же этого феномена такова, что его границы в настоящее время должны быть достаточно строго определены. Как показала практика, как недостаточная [5], так и избыточная «медицинизация» разных наук приводит к весьма негативным последствиям разного масштаба. Оба эти негативных эффекта находятся главным образом в сфере практического использования результатов научных исследований.
В рамках объединенной научной специальности «медицинизация» морфологии человека нашла свое отражение в отдельном 18-м пункте, посвященном прикладной аспектам антропологии, содержащим в том числе и медицинскую антропологию [2]. Последняя, как известно, включает морфологические исследования лишь как очень небольшую ее часть, тесно связанную с палеомедициной (антропологический аспект) и исследованиями тела человека, как объекта, в рамках знаний традиционных народных медицинских практик (анатомический аспект). В этом смысле ее включение в область исследовательского поля объединенной специальности следует считать вполне обоснованным и необходимым. Но при этом следует также однозначно подчеркнуть тот факт, что медицинская антропология, как наука, является совершенно особой областью знаний, никак не связанной ни с классической анатомией человека, ни с физической антропологией.
Медицинская антропология, как наука, возникшая в начале 60-х годов прошлого века и рассматривающая медицину, как категорию биокультурной адаптации, как антропологическую составляющую разнообразия исторически сложившихся систем здравоохранения, по своим основам и главному направлению исследований является частью социальной антропологии и этнографии. В нашей стране медицинская антропология, как одно из направлений биосоциальной антропологии в целом, успешно развивается специалистами Центра медицинской антропологии Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, российские медицинские антропологи объединены в Ассоциацию медицинских антропологов, которая выпускает собственный научный журнал «Медицинская антропология и биоэтика» [6-7].
Исходя из этого следовало бы воздержаться от широко распространенного в среде медицинских анатомов неправомерного использования термина «медицинская антропология» для обозначения применения результатов обычных антропометрических исследований в медицинской практике или антропометрических результатов, полученных медицинскими морфологами. Эта вышеуказанная избыточная, в том числе и терминологическая, «медицинизация» как самих антропометрических исследований, так и их результатов, полученных медицинскими анатомами, главным образом определила их низкую результативность в возможности эффективного практического использования. И не только в клинической или профилактической медицине, но и для науки в целом, в том числе и для физической антропологии.
Казалось бы, этимология терминов, смысловая нагрузка используемых для наименования областей и направлений исследования научной специальности не имеет существенного значения для ее развития. Можно также вполне уверенно предположить, что наименование специальности и пути ее развития напрямую могут быть и не взаимосвязаны. Однако, если мы вернемся к начальному пункту объединения наук в плане необходимости реализации единых принципов кодификации областей научной деятельности с точки зрения рациональности, и с той точки зрения, что наукометрические информационные подходы являются в этом главными, в том числе и финансово обусловленными векторами современных технологий обработки достоверной научной информации, то тогда вынуждены будем сделать прямо противоположное заключение. Более того, алгоритмические подходы, основанные на формальном анализе лексических конструкций, позволяют на наукометрических данных обнаружить новые неизвестные закономерности и тренды развития самых разных наук, что является одной из главных отправных точек построения планов их развития. Результативность такого рода исследований достаточно высока, но, к сожалению, не абсолютна и не лишена также и специфических изъянов. Можно привести несколько примеров.
Так, если к обобщению всего массива анатомических знаний о человеке подойти с точки зрения организации их наукометрической информационной структуры, то получатся три блока, которые тесно переплетены по своему содержанию, но по различному организованы с точки зрения их значения и целей [4]. Более того, она совершенно не похожа на классическую структуру и схему организации этих знаний, созданных в рамках самой анатомии человека. Полученные в рамках использования кодификаторов и семантики терминов в качестве аналитического инструмента наукометрические данные наглядно демонстрируют возможности не только анализа текущего состояния отдельных наук и отраслей наук, но и точного прогнозирования их результативности на вполне конкретное обозримое будущее [8-10]. Безусловно, в конечном итоге, важно не то, что и как что-то называется, а важно то, что под этим подразумевается. Тем более, что в парадигме новой объединенной научной специальности без изменений ее наименования и содержания морфологам предстоит развивать соответствующие исследования на протяжении не менее чем пяти предстоящих лет [2].
Для определения перспектив развития морфологических исследований в рамках и в соответствии с содержанием объединенной научной специальности необходимо, как минимум, проанализировать текущее положение вещей. Если это сделать даже поверхностно, с точки зрения наличия общих методологических платформ, общности инструментов или научного поля и массива исследований, то первое, что явно бросается в глаза и реально определяет общность медицинской анатомии и физической антропологии – это две концептуальные точки соприкосновения и пересечения их научных интересов. В настоящей статье мы проанализируем только одну из них.
Эти два концепта или теоретических инструмента пришли в анатомию человека не сами по себе, а являются, возможно, результатом реализации исключительно в практической плоскости идей так называемой интегративной антропологии [11]. С этих позиций объединение медицинской анатомии и физической антропологии в рамках одной научной специальности можно считать по меньшей мере формальным воплощением теоретической идейной платформы интегративной антропологии. В ее рамках общей точкой пересечения интересов обеих наук является, во-первых, часть учения о морфологической конституции – соматотипология. Во-вторых, это часть ауксологии, конкретно – схема возрастной периодизации онтогенеза человека, основанная на мерных и описательных морфологических критериях соматического уровня. Обе эти концептуальные точки пересечения, мягко говоря, не достаточно обоснованно и квалифицированно были использованы в антропометрических исследованиях, особенно широко и масштабно проведенных медицинскими анатомами в последние два десятилетия. В этой статье мы ставим в качестве основной задачи демонстрацию того, что явилось общим результатом таких исследований и какие должны быть сделаны из этого выводы.
Интегративная антропология была основана как оригинальное творческое направление морфологии, призванное еще тридцать (если не больше) лет назад на определенном теоретическом основании объединить все многообразие достижений морфологических наук с общим комплексом наук о человеке по меньшей мере в имеющихся на тот момент многих точках соприкосновения [11]. Смысл состоял в том, чтобы придать анатомическим и антропологическим исследованиям новый теоретический масштаб, который позволил бы как фундаментальным, так и прикладным аспектам биологической морфологии человека развиваться дальше. Ее главными компонентами были представления о соматопсихической целостности (интегральности), иерархии ее уровней, аналогично иерархии уровней живого в концепции von Bertalanffy [3], учение о конституции и так называемый экологический аспект сущности человека, по своей сути являющийся лишь модификацией концепции соотношения генотипа и фенотипа в онтогенезе [11].
Недостаточная, если не сказать весьма ограниченная, имеющаяся на тот момент концептуальная, в ряде случаев ошибочная, теоретическая основа и фактологическая необоснованность интегративной антропологии, не позволила достичь ожидаемых целей. Сегодня, о ней никто уже и не вспоминает, она так и осталась в истории отечественной науки всего лишь оригинальной идеей. Концептуально идея интегративной антропологии не получила развитие и не оправдала себя в клинической практике, несмотря на то что, казалось, что у нее для этого было достаточно оснований, ожидаемые результаты оказались слишком общими и не конкретными [12-13].
В последующем, на протяжении первой четверти текущего столетия в анатомии человека, к сожалению, прикладной аспект интегративной антропологии вполне ожидаемо возобладал над рациональностью принципов соблюдения паритета между теорией и практикой. Вместо творческой была реализована механическая интеграция в упомянутых выше лишь двух точках пересечения научных интересов анатомии человека (исключительно – медицинской, поскольку реализовывался медицинскими анатомами) и физической антропологии. Большего от медицинских анатомов и медицинской анатомии как узко направленной области профессиональной деятельности ожидать и не следовало. Это безусловно было обусловлено еще и тем, что оба концепта являются достоянием медицины в целом и, например, в своих главных аспектах учение о конституции человека возникло и разрабатывалось в рамках ее интересов начиная со времен Гиппократа, однако до логического конца, согласно заключениям специалистов, до сих пор это учение так и не доведено [14].
Не только у нас в стране, но, к сожалению, в ряде случаев и за рубежом в последние два десятилетия это пересечение интересов воплотилось в буквальном смысле в «вал» так называемых «анатомоантропометрических» (анатомическая составляющая в которых была сведена до минимума или отсутствовала совсем) исследований на самом дешевом по затратности их организации, самом доступном, зачастую - на неоправданно большом по численности, материале - студентах и школьниках [15]. В результате были опубликованы сотни статей и книг, защищены десятки диссертаций, результативность которых до сих пор вызывает справедливые сомнения. В подавляющем их большинстве отсутствуют глубокие аналитические доказательства оригинальности и их реальной необходимости, кроме констатации фактов в большинстве такого рода исследований существенного достигнуто не было.
К сожалению, встречались, например, и такие диссертационные исследования в которых на больших массивах антропометрических данных, давно установленные, очевидные и не требующие доказательств половые различия сомато-типологии (стыдливо и семантически неправильно именуемые «гендерными») возводились в ранг основных их положений или выводов. Досадным фактом является и то, что эти исследования большей частью обсуждались в узкопрофессиональной медицинской среде с попытками сделать глобальные (достаточно спорные) антропологические, в том числе и исторические и даже эволюционные в антропогенетическом смысле, выводы и заключения. Результаты их не знакомы или мало известны специалистам - физическим антропологам, параллельно в это же самое время проводившим исследования на гораздо меньших по численности, но тщательно отобранных группах и популяциях с соответствующими, глубоко обоснованными, научными выводами.
Более того, так называемые практические рекомендации, содержащиеся в исследованиях медицинских анатомов, мало отвечали и до сих пор не отвечают реальным запросам клиники. Известно, что подавляющая доля кадровых, финансовых и материальных затрат и усилий ее направлена на лечебно-диагностическую и профилактическую деятельность прежде всего с контингентами людей совершенно иных возрастных категорий, нежели чем обследованных анатомами студентов медицинских вузов. Возможно, единственным положительным и довольно неожиданным существенным результатом их явилось только пополнение кадрового резерва молодыми анатомами с ученой степенью, которых так не хватает сегодня медицинским университетам и медицинским факультетам во всем мире. Возможно, этим новым специалистам теперь как раз и необходимо будет заняться развитием того направления исследований, о котором пойдет речь в заключении настоящей публикации для развития объединенной научной специальности.
Отвечают ли указанные выше два концептуальных инструмента и две точки соприкосновения научных интересов медицинской анатомии и физической антропологии прикладным запросам современной медицины или антропологии? Положительный ответ пока может быть весьма сомнительным, либо и вовсе отрицательным. Исключительно медицинский аспект как недавней, так и текущей актуальности учения о морфологической типологии человека весьма и весьма сомнителен по той причине, что основные положения учения о типологии человека и ее прикладном клинико-анатомическом значении были уже давно реализованы известной анатомической школой академика АМН СССР В.Н. Шевкуненко и его учениками, это произошло еще в 20-30-х годах прошлого века.
Действительно, в реальных условиях достижений как отечественной, так и зарубежной медицины того времени, ее инструментальная база была ограничена в подавляющем большинстве случаев только тщательным визуальным осмотром и в самом лучшем случае - рентгеновским ме- тодом исследования. Поэтому знания об анатомической телесной типологии и вариантной анатомии, недоступных тогда для точного инструментального обследования внутренних органов, соответствия их морфологических вариантов типологии всего организма (тела) была остро актуальной. И монография по типовой анатомии, изданная в 1932 году В.Н. Шевку-ненко и его учеником А.М. Геселевичем на основании более чем полутора тысячи вскрытий в течение прошлого века служила настольным руководством каждого врача общей практики, военного врача и каждого хирурга [16]. Она реально и эффективно помогала заранее предвидеть возможные индивидуальные особенности и анатомические неожиданности в форме и размерах органов, которые в большинстве случаев соответствовали общему типу тела и имели существенно важное диагностическое значение. Однако в этом общем правиле соматотипологической обусловленности формы и размеров внутренних органов были и явные исключения. Но не только и не столько по этой причине сегодня этот концептуальный подход полностью потерял свое медицинское диагностическое прикладное значение.
Другой, главной, причиной является то, что арсенал современных медицинских технологий и приборно-инструментального парка таков, что сегодня у каждого из девяти миллиардов, живущих на планете людей можно не только с точностью до десятой доли миллиметра определить анатомию не то, чтобы органа, а любой структуры тела, но и более того -определить молекулярно-генетический ее состав. В этом исключительно диагностическом, прикладном смысле с научной точки зрения уже давно изученная сома-тотипология и типология органов выглядит не только историческим анахронизмом, но и сродни ортодоксальным попыткам противопоставления достижениям современных медицинских технологий эмпирических приемов представителями традиционной медицины, в среде которых, кстати, индивидуализация пациента, как принцип, явно противопоставлен типизации. Более того, например, почти абсолютизированный в отечественной ме- дицинской среде, пресловутый индекс массы тела или Кетле, уже давно в современной как профилактической, так и клинической медицине не рассматривается как достоверный предиктор патологии, а интерпретация состава тела современного человека требует гораздо более глубоких знаний, позволяющих не только констатировать границы анатомической нормы [17-18].
Медицинским анатомам, как и апологетам страховой медицины, давно следовало бы усвоить тезис о том, что если смыслом профессиональной деятельности врача действительно является ценность жизни каждого отдельно взятого человека, а не безликих страховых случаев вообще, то типологический подход в целом остро противоречит парадигме персонализированного. И в области так называемых фундаментальных биомедицинских наук этот тезис должен быть усвоен и принят раньше, чем в клинике, а не наоборот. И не только потому, что следует начинать эти исследования в парадигме столь актуальной сегодня персонализированной медицины.
Сегодня попытки в рамках рандомизированных подходов составлять обобщенные соматотипологические портреты каких-либо, наиболее доступных, произвольно выбранных популяций, можно квалифицировать лишь как весьма сомнительные с научной точки зрения попытки, как минимум недостаточно обоснованные. В таких популяциях в значительном числе всегда найдутся лица, использующие разнообразные и широко распространенные формы и средства диетотерапии, фитнесс-технологий, косметологических приемов и операций, бодибилдинга. Среди них будут также всегда присутствовать лица, питающиеся нерационально, ведущие малоподвижный образ жизни, физиологически не соответствующий их полу, возрасту и должному образу, неподвластный контролю исследователей, и, в силу указанных причин, имеющие явно измененный по составу тела соматотип, далекий от реального, конституционально обусловленного. И никакие ни рациональные, ни иррациональные критерии включения и исключения не предоставят возможности объек- тивно оценить реальное положение дел в такого рода популяциях.
В то же время следует указать, что каждая такая группа наблюдений, но взятая в отдельности, действительно представляет собой как научный, так и практический интерес, подтверждаемый соответствующими публикациями физических антропологов в высокорейтинговых зарубежных научных журналах. Такого рода групповые исследования находятся в русле самых передовых научных стратегий в плане перехода от массовых исследований через групповые к персонализированным с использованием геномных технологий [9].
Предвижу, что в качестве возражения автору могут быть все-таки приведены некие критерии включения и исключения, которые зачастую выдвигаются в качестве доказательных аргументов. Однако, исследования доказательной медицины основываются не на произвольном выборе популяций (чаще - студентов) и не на субъективных опросниках и анкетах, а на документально и лабораторно подтвержденных соответствующими анализами данных. В физической же антропологии для подобного рода исследований давно разработано их эффективное организационное решение - это полевые исследования, а геномные исследования давно внедрены в практику как их органичная составная часть, (см. например, работы Васильевой и соавт. [19-20]).
Медицинская диагностическая ценность сопоставления соотношения значений индивидуальных компонентов тела (например, в столь широко распространенной схеме Хит-Картера в которой единственным, постоянным по значению параметром является лишь показатель длины тела) с полученными в такого рода исследованиях популяционными значениями, чаще приближается к нулевому значению и в лучшем случае является бесполезной.
Отдельной не менее значимой проблемой для анализа и сопоставления полученных в этих исследованиях данных является также использование не классических антропометрических инструментов и приемов, часто исключающее такие сопоставления в принципе. Анатомическая типология органов (как главная анатомическая проблема - проблема индивидуальной анатомической изменчивости) никогда не будет соответствовать типам тела, выделенным на основе анализа только постоянно меняющихся его тканевых (а отнюдь не анатомических!) компонентов. Мы не приводим результаты этих многочисленных работ медицинских анатомов, поскольку в них указанное соответствие строго статистически никогда доказано и не было. В лучшем случае в них речь идет не об искомом соответствии вариабельности органов типам тела, а о весьма приблизительной, чаще статистически недостоверной частоте такого соответствия.
Неквалифицированные попытки межгруппового и внутригруппового сопоставления относительных объемов различных тканевых компонентов тела сравниваемых популяций характеризовались отсутствием детального анализа их возрастной структуры, когда возраст обследуемых характеризовался разбросом в десятилетия или, как минимум, в несколько лет и неоправданно и чаще, для статистического объема опирался на известную схему возрастной периодизации. Кроме того, в такого рода сравнениях часто использовались неадекватные статистические приемы. Как первые, так и вторые вызывали и продолжают вызывать вполне закономерные вопросы физических антропологов с учетом того, что в физической антропологии адекватные приемы избавления от такого рода ошибок давно разработаны.
Благие медицинские анатомические цели, на которые чаще всего были нацелены антропометрические исследования медицинских анатомов могли и могут быть достигнуты только в том случае, когда методы оценки размерных параметров, компонентного состава, пропорций тела и уровня физического развития будут адекватны задачам исследований. Например, должная прикладная значимость и эффективность антропометрических методов и подходов с использованием технологии импедансометрии (биоим-педансометрии) детально проанализирована и четко показана на примере исполь- зования их в клинике диетологии, нутрициологии, эндокринологии, физической культуре, спорте, фитнесс-технологиях и иных областях известной школой антропонутрициологии академика Д.Б. Ники-тюка в работах ФИЦ питания и биотехнологии [21]. Достижения в этих областях впечатляющи. Именно в этих областях и никак не в анатомии человека и не в физической антропологии (исключая случаи решения очень узких и весьма специальных вопросов или как дополнение к классическим методам) можно и нужно было использовать, к сожалению, получившую в этих областях необоснованную и не оправданную широкую практику в последние годы, импедансометрию.
С научно-методологической точки зрения импедансометрия - физиологический метод динамического наблюдения состояния и его изменений у одного и того же человека, а не однократной констатации фактов у сотен разных людей возрастных категорий, разделенных десятилетиями. Многочисленные диссертационные исследования на основе однократных измерений этим методом тканевого состава «тел вообще», без анализа классических анатомических размеров, архитектуры и формы измеряемых структур (а не «тканей вообще»), без анализа их топографии и локализации, являющихся краеугольными понятиями, предметами и главной целью наук о форме и строении тела человека, ничего нового им не принесли. Они были выполнены как исследование ради исследования и как модная дань технологизации методов, в которых анатомия человека и физическая антропология, по сути, не нуждаются. Принципиально новая информация в этих областях может быть получена только путем использования возможностей, методологии и подходов современных информационных технологий, способных обрабатывать большие массивы информации, уже накопленные в них более чем за пять столетий. Только они могут дать принципиально новые результаты.
Анатомические задачи антропометрическими приемами могут быть решены и всегда решались исключительно на основе анализа стабильных в онтогене- зе размерных характеристик тела, его размерных пропорциях, но отнюдь не сома-тотипологии, основанной на соотношении тканевых компонентов тела [16, 22]. Но даже в этом случае необходимо четко разделять соответствие общей типологии тела, размеров и формы органов или частей тела, которые предположительно морфогенетически явно с ней взаимосвязаны как, например, отдельные органы нервной или сосудистой систем. Необходимость строгого учета этого морфогенетического принципа была четко обозначена еще В.В. Бун-ком в прошлом веке [23]. Сопоставление с общей типологией тела типологии органов, имеющих специфический, генетически жестко контролируемый морфогенез, не взаимосвязанный с механизмами генетического контроля роста всего тела не имеет смысла.
Ни оценки постоянно меняющегося в зависимости от фазы онтогенеза и скорости возрастных процессов, гормонального и физиологического (беременность) статуса, нерегулируемого и неконтролируемого исследователями образа жизни и иных факторов компонентного состава тела, ни сочетанные оценки состава тела и отдельных стабильных размерных показателей не могут быть эффективно использованы для решения анатомических медицинских задач. Иными словами, как анатомические подходы и методы имеют свои ограничения для их использования в физической антропологии, так и антропометрические приемы и инструменты имеют ограничения в анатомических исследованиях.
Какие проблемы и при каких условиях можно было бы реально решить на основе указанных выше этих многочисленных массовых антропометрических исследований, проведенных медицинскими анатомами чуть ли не в каждом медицинском вузе страны? Ренессанс учения о конституции и соматотипологии в рамках указанной выше идеи интегративной антропологии, пришедшийся на девяностые годы прошлого века и с текущим, мягко говоря, не очень позитивным в прикладном аспекте эффектом, имел только фундаментальное, теоретическое значение. Маловероятно было ожидать и надеяться на то, что пересмотр учения о конституции в рамках интегративной антропологии должен дать очень конкретные ответы на запросы профилактической и клинической медицины, если это учение до сих пор так и не дало эти ответы на протяжении своей более чем столетней истории. Это обращение интегративной антропологии к учению о конституции предназначалось исключительно для теоретического анализа общих принципов структурной организации тела человека вообще, роли и места в нем молекулярногенетических факторов и факторов среды, поскольку в конечном счете конституция конкретного человека и тип его тела являются вполне конкретным, структурно и по анатомической форме воплощенным и продолжающим на протяжении жизни воплощаться, результатом их взаимодействия, сложным, динамичным во времени продуктом взаимодействий множества факторов.
Постановка этого вопроса о соотношении и роли наследственных и средовых факторов, например, уже заведомо исключала однозначный ответ на попытки получить его даже в процессе реализации известного проекта «Геном человека». Реализация этого крупномасштабного много обещавшего международного проекта, пришедшаяся на время упомянутого выше ренессанса в нашей стране учения о конституции и многоуровневой ее организации в рамках интегративной антропологии в 90-годы двадцатого века безусловно предоставила важную и значимую во многих сферах науки информацию. Но тем не менее и вполне ожидаемо результаты этого проекта не принесли ответа на главный вопрос учения о конституции и интегративной антропологии: почему мы такие какие мы есть и какова конкретная роль генома и роль среды в этом? [11]. Да и задолго до реализации проекта по геному человека в рамках накопленных к тому времени фактах учения о конституции можно было твердо и уверенно предсказать, что расшифровка генома человека не даст ответа на этот вопрос. Как написал один из известных специалистов по молекулярной биологии Д. Батлер: «Общая последовательность [генома, примеч. авт .]
была необходима для того лишь, чтобы позволить нам увидеть, что наша генетическая модель «один ген - один белок» была слишком упрощенной» [24].
Вне рамок менделевской генетики (которая сама по себе с известной вероятностью лишь статистически может обладать прогностичностью) конкретный анатомический фенотип является продуктом реализации молекулярных механизмов, контролируемых сотнями, если не тысячами генных полиморфизмов, сверх того, в процессе всего онтогенеза, а не только во время закладок органов, «шлифуемых» многочисленными эпигенетическими механизмами. И если в своих исследованиях физические антропологи время от времени все-таки обращались непосредственно к этим механизмам и учитывали их важную роль, то в среде медицинских анатомов они выглядели научной экзотикой. Нам не знакомы исследования отечественных анатомов, исключение из которых возможно составляют наши собственные и некоторых наших учеников, в которых для объяснения конкретных анатомических фактов, привлекались бы хотя бы и на вероятностном уровне известные генетические или эпигенетические механизмы [4]. Отрадно отметить, что наконец-то, в рамках содержания объединенной научной специальности необходимость анатомических исследований структуры и топография органов человека, структурных компонентов с учетом особенностей их взаимосвязей с молекулярногенетическим профилем человека получила свое вполне обоснованное отражение и является первоочередной научной проблемой [2].
В заключении, возвращаясь от аналитики текущего положения дел к перспективам, отраженным в названии настоящей публикации должен быть сделан необходимый вывод. Этот вывод, который следует из рассмотрения одной из указанных нами точек концептуального соприкосновения и пересечения научных интересов медицинской анатомии и физической антропологии в среде огромного массива данных, полученных за последние два десятилетия в области соматотиполо-гии, заключается в том, что этот массив теперь остро нуждается в разработке соответствующей методологии и эффективных методов его адекватного научного анализа. Для того, чтобы соматотиполо-гия, в которой накоплено огромное количество данных по самым разным этно-территориальным, возрастным и объединенным по иным критериям группам населения наконец принесла реальную практическую пользу, нужна аналитика принципиально нового информационного уровня. Без такого, соответствующим образом методологически обоснованного, сравнительного анализа с каких бы позиций он не предпринимался, полученная в огромном числе диссертационных (и не только) исследований информация, так и останется в форме многочисленных констатирующих баз так называемых «анатомо-антропометрических» данных, отражающих лишь эффект упомянутого нами феномена «медицинизации». А научная их ценность и, самое главное – принципиальная применимость и возможная реали- зация, так и останется в форме благих пожеланий, выраженных текстами скромных практических рекомендаций. В физической антропологии такого рода инструменты, к сожалению, малоизвестные или совсем неизвестные в среде медицинских анатомов, в незначительном их числе, но все-таки имеются. Одним из таких теоретических инструментов может служить концепция адаптивных фенотипов, разработанная в нашей стране академиком РАН Т.И. Алексеевой [25]. Что же касается теоретических концептов, для возможного анализа такого рода данных в медицинской анатомии человека, то их наличие и возможности, как показано нами, пока оставляют желать лучшего [4]. В свою очередь и физические антропологи также нуждаются в глубоко эффективных анатомических концептах о телесной, структурной организации человека. Аналитические инструмента такого рода должны разрабатываться совместно как анатомами, так и антропологами.