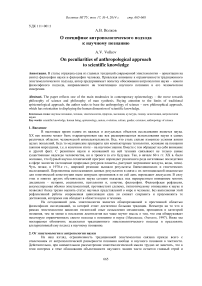О специфике антропологического подхода к научному познанию
Автор: Волков Алексей Владимирович
Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu
Статья в выпуске: 4 т.17, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье отражена одна из главных тенденций современной эпистемологии - ориентация на синтез философии науки и философии человека. Привлекая внимание к ограниченности традиционного эпистемологического подхода, автор предпринимает попытку обоснования антропологии науки - нового философского подхода, направленного на тематизацию научного познания в его человеческом измерении.
Научное познание, человек, эпистемология, природа, эволюция, культура, гендер, экзистенция, антропология науки
Короткий адрес: https://sciup.org/14294737
IDR: 14294737
Текст научной статьи О специфике антропологического подхода к научному познанию
В настоящее время одним из важных и актуальных объектов исследования является наука. XX век вполне может быть охарактеризован как век расширяющегося использования науки в самых различных областях человеческой жизнедеятельности. Все, что столь сильно изменило условия жизни целых поколений, будь то медицинские препараты или компьютерные технологии, основано на познании законов мироздания, т.е. в конечном итоге – на научном знании. Вместе с тем обращает на себя внимание и другой факт. С развитием науки и основанной на ней техники связывают не только самые существенные надежды человечества, но и тревоги за его будущее. Так, в начале 60-х гг. XX в. было осознано, что бурный научно-технический прогресс порождает различного рода негативные последствия в сфере экологии (истощение природных ресурсов планеты, растущее загрязнение воздуха, воды, почв). Чуть позже, в 1970-е гг., широкий резонанс вызвали результаты биомедицинских и генетических исследований. Перспективы использования данных результатов в связи с их потенциальной опасностью для генетической конституции ныне живущих организмов и по сей день порождают дискуссии. В силу этих и многих других обстоятельств наука сегодня оказалась под перекрестным вниманием многих дисциплин – истории, социологии, психологии и, конечно, философии. Философская рефлексия, аккумулируемая обычно эпистемологией, противостоит слепому, гипнотическому отношению к науке и позволяет более трезво оценить статус научных представлений о мире и человеке. Без выполнения этой рефлексивной работы современная цивилизация едва ли сможет сохранить и приумножить те достижения, которыми она обладает в области науки и техники.
На сегодняшний день эпистемология является общепризнанной и престижной областью философских исследований, за которой стоит достаточно большая традиция. Несмотря на то что в рамках эпистемологии накоплен гигантский опыт осмысления механизмов, принципов и категорий познания, тем не менее в последние десятилетия все чаще звучит мысль о том, что она обнаруживает некоторую ограниченность своего подхода к познанию и науке ( Микешина, Опенков , 1997). Ниже мы постараемся обозначить недостатки традиционного эпистемологического подхода и предложить альтернативный ему подход к научному познанию.
2. От эпистемологии к антропологии науки
На наш взгляд, ограниченность традиционной эпистемологии связана прежде всего с отвлечением от антропологической размерности познания вообще и научного познания в частности. Действительно, при внимательном рассмотрении эпистемологической мысли трудно не заметить, что в тени интереса к теме обоснования объективности научного знания часто остается главный герой и участник познавательного процесса - человек. Последний либо исчезает в абстракции безразмерной, лишенной бытийной плотности идеальной точки, либо получает одностороннюю интерпретацию, выступая исключительно как социальное существо. Так, в отечественной философии была проделана большая работа по осмыслению социокультурной обусловленности познания. Было показано, как и в каких формах социальное и культурно-историческое входят в содержание знания и влияют на способы и результаты познавательной деятельности (Косарева, 1989; Мамчур, 1987). Человек, однако, принадлежит не только миру социума и культуры, но и миру природы, а между тем эволюционно-биологическая форма обусловленности познания часто оставалась в тени философского интереса. Такое разъятие социокультурного и биологического начал познавательной деятельности разрушает человеческое знание. В этой связи настоятельной потребностью и необходимостью оказывается восстановление антропологической целостности и полноты феномена знания.
Недостаток внимания к реальному субъекту познания - человеку - проявляется в традиционной эпистемологии и в отвлечении от гендерного измерения научного познания - измерения, в котором биологические и социокультурные факторы оказываются тесно переплетенными и взаимосвязанными. Высказанную в свое время Ст. Тулмином мысль о том, что физики, а не физика объясняют физические явления, можно было бы продолжить: коль скоро сами ученые отнюдь не бесполые существа, их принадлежность к "сильному" или "слабому" полу, их представления о поле как таковом могут накладывать отпечаток как на особенности социальной организации науки, так и специфику порождаемого ей знания. Резонно спросить: не оказывают ли влияние гендерные установки, стереотипы, представления на выбор направления и предмета научного исследования, на способ постановки научных проблем и язык научного описания?
Наконец, приходится обратить внимание и на еще одно обстоятельство, а именно: человек не просто живет в мире природы и культуры, он есть существо пограничное, вынужденное выходить за пределы как первозданной, биологической природы, так и "второй природы", т. е. культуры, которую человек создал себе сам. Как соотносится и соотносится ли вообще научное познание с таким способом человеческого бытия? Экзистенциально ли научное познание? Данные вопросы часто остаются за пределами внимания эпистемологов, а между тем экзистенция как способность человека к активному выходу из состояния наличного бытия представляется весьма важной для видения и понимания человеческого измерения научного познания.
Таким образом, ни одно из существующих направлений, осмысляющих научное познание (эволюционная и социальная эпистемология, философия и социология науки) само по себе не предоставляет целостного образа познания в его человеческом измерении. На наш взгляд, преодоление подобной неполноты и односторонности может и должно осуществляться через построение антропологии науки - направления, которое тематизирует познание в многообразии и единстве человеческих измерений (эволюционно-биологического, социокультурного, гендерного, экзистенциального). Такое антропологическое исследование должно иметь междисциплинарный характер, коль скоро и сам человек как существо познающее живет во многих мирах и время от времени трансцендирует их границы. При этом главное, чтобы при продумывании путей возвращения человека в познание идеи и принципы разных направлений сочетались не механическим, а органическим образом. С учетом вышеизложенного попробуем определить основные цели и задачи антропологии науки.
Итак, главная цель, в достижении которой антропология науки обретает свой смысл, заключается в том, чтобы эксплицировать человеческое измерение научного познания и в частности дать целостную картину укорененности познавательной деятельности в такой сложной и многомерной основе, как человеческое бытие. Полагаем, что в процессе реализации данной цели исследователь должен ориентироваться на решение следующих задач.
Во-первых, необходимо проанализировать специфику познавательной деятельности как таковой и вывести из тени те средства и структуры, которые задействованы в процессе познания. Результатом подобного анализа должна стать демонстрация зависимости продуктов познания от ряда особенностей "когнитивной оснастки" человеческого сознания - модулярного устройства психики, телесной организации человека, языковой природы сознания. Уже на данном этапе исследования важно увидеть и показать, что человек не просто отражает, как в зеркале, некий неочеловеченный мир, но делает это при помощи человеческих процедур и операций, которые незримо присутствуют и в результатах такого отражения.
Во-вторых, необходимо задаться вопросом об истоках и природе той "когнитивной оснастки", которую задействует человеческое сознание в процессе познания окружающего мира. Ведущей здесь должна стать мысль о том, что человек - это существо биосоциальное и поэтому когнитивный инструментарий сознания складывается под влиянием как биологических, так и социокультурных факторов. На данном этапе особенно важно продемонстрировать ограниченность односторонней
(социальной или биологической) обусловленности сознания и показать диффузность границы между "врожденными" и "приобретенными" началами в составе познавательного опыта.
В-третьих, переходя к рассмотрению собственно научного познания, целесообразно выявить связь между становлением характерного для науки арсенала познавательных способностей, с одной стороны, и развитием самого человека - с другой. При этом резонно выявлять данную связь, обращаясь как филогенетическому, так и онтогенетическому уровню развития человека. Подобная двойственность важна прежде всего в плане выяснения возможностей и границ попыток фундировать базовые для научного познания когнитивные способности (способность к выдвижению и проверке предположений, каузальному мышлению, творческому воображению, абстрактному мышлению и языку, рефлексии) в сознании древнего человека и ребенка. Полагаем, что и в данном случае следует избегать крайностей и стремиться показать, что существенные для научно-познавательной деятельности когнитивные способности несут на себе печать эволюционно-биологических, социокультурных процессов.
В-четвертых, следует продемонстрировать, что не только познавательные способности человека, но и само содержание генерируемого ученым знания тоже зависит от эволюционно -биологических и социокультурных процессов. В этой связи было бы чрезвычайно полезным обратиться к анализу уровня философских оснований научного знания и показать, что в эволюционном прошлом человека берут свое начало прежде всего фундаментальные научные категории и принципы, тогда как частнонаучные понятия, а также процессы отбора и интерпретации изучаемых явлений, принципы обоснования и проверки знания, с одной стороны, заданы свойствами познаваемой реальности, а с другой - отражают специфику норм и ценностей конкретного исторического периода, научного сообщества.
В-пятых, при рассмотрении биологической и социокультурной обусловленности научного познания необходим учет гендерных факторов. Требуется показать, что гендерные представления и стереотипы часто оказываются неявными для субъекта научного познания, выступают как часть "естественного", "само собой разумеющегося" взгляда на мир. В этом случае они могут оказывать влияние на выбор направления и предмета научного исследования, способа постановки научных вопросов, языка описания.
В-шестых, важной задачей при экспликации человеческого измерения научного познания является анализ научного познания не только сквозь призму субъект-объектных, но и интерсубъективных отношений. В центре внимания исследователя должно оказаться то обстоятельство, что выработанные различными научными группами правила наблюдения, навыки обращения с оборудованием, способы интерпретации эмпирических данных зачастую несопоставимы, и поэтому путь к научному результату лежит через дискуссии, переговоры, в которых задействованы не только объективные, но и субъективные факторы. В этой связи открывается возможность показать (на этот раз уже применительно к научному познанию), что результат научно-познавательной деятельности является не идеальной копией внечеловеческого мира, а конструкцией, вобравшей в себя ряд переговоров, решений, т.е. имеет двуединую - субъектно-объектную - природу.
В-седьмых, следует попытаться выявить связь между особенностями научно-познавательной деятельности, с одной стороны, и экзистенциальной спецификой человеческого бытия - с другой. Думается, что принципиальным для решения данной задачи является обращение исследователя к анализу конструирующего характера научного познания. Дело в том, что конструирующий характер научного познания, предполагающий как соединение, так и разъединение фактического и артефактического, природного и культурного элементов в процессе и продукте познавательной деятельности вынуждает субъекта познания периодически переопределять не только картину сконструированной им реальности, но и то место, которое он отвел в этой картине себе. В этой связи, конструирующий характер научного познания отвечает экзистенциальной специфике человека - существа пограничного, не принадлежащего всецело ни миру природы, ни миру культуры, существа принципиально незавершенного, истиной не обладающего, но ее ищущего.
3. Заключение
Таковы некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, задачи, стоящие перед антропологией науки. Подчеркнем еще раз, что реализация данных задач возможна только в рамках комплексного, междисциплинарного исследования. Для продуктивного осмысления человеческого измерения научного познания требуется сотрудничество философии с эволюционной психологией, социологией научного познания, когнитивной наукой, психоанализом, историей культуры. При этом философское представление о человеке как существе, с одной стороны, конечном и обусловленном, а с другой -открытом и незавершенном, должно оставаться главным собирающим основанием для этого междисциплинарного дискурса о познающем человеке. Только на базе данного представления возможно занять сбалансированную философско-методологическую позицию и в частности избежать крайностей социологического и биологического редукционизма по вопросам происхождения и специфики научного познания, места науки в культуре и т.д. Думается, что благодаря антропологии науки человек сможет наконец-таки предстать не в образе абстрактного субъекта, в жилах которого, как писал В. Дильтей, течет не настоящая кровь, а в качестве вполне реального существа, находящегося во взаимодействии с другими познающими существами и коллективами.