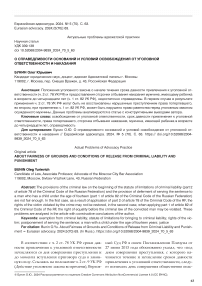О справедливости оснований и условий освобождения от уголовной ответственности и наказания
Автор: Бунин О.Ю.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 5 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
Положения уголовного закона о начале течения срока давности привлечения к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 78 УК РФ) и предоставления отсрочки отбывания наказания мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ч. 1 ст. 82 УК РФ), недостаточно справедливы. В первом случае в результате применения ч. 2 ст. 78 УК РФ могут быть не восстановлены нарушенные преступлением права потерпевшего, во втором, при применении ч. 1 ст. 82 УК РФ, может быть нарушено право равенства перед уголовным законом осужденного мужчины. Данные проблемы анализируются в статье с конструктивными выводами автора.
Освобождение от уголовной ответственности, срок давности привлечения к уголовной ответственности, права потерпевшего, отсрочка отбывания наказания, мужчина, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/140307474
IDR: 140307474 | УДК: 339.138 | DOI: 10.52068/2304-9839_2024_70_5_63
Текст научной статьи О справедливости оснований и условий освобождения от уголовной ответственности и наказания
ного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ)» (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»). Таким образом, в соответствии с данными положениями уголовного закона срок, в котором потерпевшим (лицом, не находящимся в уголовно-процессуальном статусе потерпевшего, а чьи права явились объектом преступления) по объективным причинам не было обнаружено преступление (он не знал и не должен был знать о преступном посягательстве на свои права), включается в срок давности привлечения лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности. Рассмотрим такие обстоятельства на заурядных примерах, в которых потерпевший несправедливо может остаться (и остается) не только без уголовно-правовой защиты своих нарушенных преступлением прав, но и без возможности их защиты (восстановления) в принципе.
В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом. Верховный Суд РФ последовательно разъясняет, что «мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то, по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 ГК РФ, содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб» (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).
В ч. 4 ст. 159 УК РФ установлена уголовная ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражда- 64
нина на жилое помещение. «Если в результате мошенничества гражданин лишился права на жилое помещение, то действия виновного надлежит квалифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ…» (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). Таким образом, мошенническое лишение права собственности гражданина (потерпевшего де-факто) на жилое помещение будет считаться оконченным преступлением со дня перехода права собственности на квартиру (де-юре) на преступника или используемых им лиц (возможно, что и добросовестных приобретателей, например в случае использования мошенником подложной доверенности на продажу жилого помещения). К примеру, потерпевший, имевший в собственности объект жилой недвижимости – квартиру, доверил ее в управление своему знакомому гражданину, будущему мошеннику, а сам выехал на постоянное место жительство за границу. Спустя 10 лет получения от мошенника «части арендной платы» потерпевший узнает, что его недвижимость была похищена путем незаконного (подложного) переоформления (перерегистрации) права собственности на нее еще 10 лет назад. В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо, совершившее данное тяжкое преступление (по максимальному сроку в санкции ч. 4 ст. 159 и положения ч. 4 ст. 15 УК РФ – категории тяжкого преступления), не подлежит уголовной ответственности ввиду истечения 10-летнего срока давности. На основании чего, согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, его уголовное преследование не допускается, и уголовное дело не может быть возбуждено. Или же прошло 9 лет после совершения данного преступления, но одного года не хватило для окончания предварительного расследования по все-таки возбужденному делу (задержали сроки проведения почерковедческих и иных судебных экспертиз), и в соответствии с тем же п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению.
Если бы у потерпевшего из данного примера была бы реальная возможность восстановить свое нарушенное право собственности на когда-то принадлежащую ему квартиру без уголовно-правового воздействия на преступника, то законодательный запрет на его уголовное преследование был бы все-таки в целом справедлив (социальная справедливость была бы восстановлена после восстановления законного права собственности). Однако это весьма затруднительно (особенно с конечным добросовестным приобретателем жи- лого помещения), поскольку в соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Обязанность доказывания) каждая сторона гражданского процесса должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Доказать же самостоятельно (без помощи государственно-властного аппарата) совершение вышеприведенного мошенничества и других преступлений, по которым в соответствии с положениями ст. 20 УПК РФ уголовное преследование осуществляется в публичном и частнопубличном порядке, как противоправных деяний далеко не всегда и не всем обманутым лицам под силу. Согласно же ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью должны в полной мере охраняться
Время с момента получения имущества (денежных средств) по таким договорам и гражданского судебного процесса поглощается сроком давности привлечения к уголовной ответственности, в результате чего права собственности потерпевшего остаются навсегда не восстановленными. К примеру, преступник заключает со своей жертвой некий договор «инвестирования», по которому сразу завладевает денежными средствами, и преступление небольшой тяжести, предусмотренное либо ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), либо ч. 1 ст. 160 УК РФ, считается оконченным. Обманутое и (или) слишком доверчивое лицо, лишившееся своих денежных средств, ждет их возврата (с большими обещанными процентами) один год по договору и один год в период гражданского судебного разбирательства по заявленному им иску. Однако в рамках гражданских правоотношений с учетом свободы договора (ч. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), добровольности его заключения, дееспособности и других справедливых гражданско-правовых норм у суда не находится оснований для удовлетворения исковых требований. Спустя два или полтора года после утраты своих денежных средств лицо узнает факты, свидетельствующие о совершении в отношении него преступления, а не гражданско-правового деликта (например, узнает о наличии аналогично обманутых этим же лицом граждан, что говорит об умысле лица на совершение преступлений). При этом в соответствии с обоснованным положением в ч. 2 ст. 78 УК РФ в случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. Таким образом, приведенному в данном примере преступнику, используя доверие потерпевших и различные психологические манипуляции с ними, удается уйти от уголовной ответственности в связи с истечением справедливо установленного в п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ 2-летнего срока давности, но главное, что потерпевшие лица остаются без возможности восстановления нарушенного (лишенного) деянием права собственности.
Современные исследователи отмечают, что «принцип справедливости, положенный в основание законодательной модели регулирования общественных отношений, должен предполагать такой правовой порядок, в котором нашлось бы место вопросу восстановления нарушенных прав и интересов потерпевшего, возмещения морального, физического, имущественного и иного вреда последнему» [1]. Специалисты считают, что все меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, и потому, в том числе, направленными на восстановление нарушенных законных прав и интересов потерпевшего [2].
Как известно, специфика приведенных примеров преступлений заключается в обмане и (или) злоупотреблении доверием. Эти обстоятельства и мешают потерпевшим долгое время узнать о совершении в отношении них (их имущества или прав на него) преступления. Как указал Верховный Суд РФ, «Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства)» (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).
Аналогичным образом может развиваться ситуация и при мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, уголовная ответственность за которое установлена частями 5–7 ст. 159 УК РФ. Действие данных уголовно-правовых норм, согласно п. 4 примечаний к ст. 159 УК РФ, распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Если потерпевшая сторона, являющаяся субъектом предпринимательской деятельности, не располагает достаточными данными для вывода о совершении в отношении нее преступления и, соответственно, о возбуждении уголовного дела (согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления), то время с момента утраты имущества по заключенному договору на ожидание выполнения условий данного договора и судебное арбитражное разбирательство может поглотиться сроком давности привлечения к уголовной ответственности. При этом в случае вынесения арбитражным судом положительного для потерпевшей стороны решения его нарушенное или утраченное право собственности может не восстановиться, поскольку решение арбитражного суда направлено на противную сторону договора, которым зачастую является юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью. Как известно, в соответствии с ч. 1 ст. 87 ГК РФ участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. При этом лицами, совершившими мошенничество, могут являться не номинальные учредители и руководители организации, а третьи лица, не участвующие в гражданском (арбитражном) судебном разбирательстве.
Более значимыми для государства и общества примерами недостаточной справедливости установленного в уголовном законе начала течения сроков давности привлечения к уголовной ответственности могут являться случаи выявления различных форм хищений в государственных и муниципальных организациях, совершенных их руководителями и бухгалтерами. Согласно положениям статей 294 и 296 ГК РФ государственному или муниципальному унитарному предприятию имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, ГУПы и МУПы самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом. За учреждениями и казенными предприятиями закреплено имущество на праве оперативного управления. Потерпевшим от различных имущественных хищений в государственных и муниципальных организациях (пред- 66
приятиях, учреждениях) может быть государство или орган муниципального управления в лице соответствующих органов управления данного (похищенного) имущества. Обнаружить же хищение (присвоение, растрату) своего имущества такой потерпевший нередко может только при выявлении противоправных деяний контрольноревизионными органами. Виновные в таких хищениях лица в случае истечения срока давности привлечения их к уголовной ответственности уходят и от гражданской ответственности, поскольку факт хищения приговором суда не установлен, а финансовые претензии в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства могут быть предъявлены только к субъектам хозяйственной деятельности – вышеуказанным юридическим лицам. Как известно, даже в крупных государственных корпорациях происходят миллиардные хищения, а их бывшим руководителям удается уходить от уголовной ответственности (благодаря этому и ответственности гражданской) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности ввиду обнаружения контрольно-ревизионными государственными органами хищений спустя годы. Такая несправедливость, когда государство не может вернуть имущество, похищенное (преступно присвоенное или растраченное) управлявшими государственными компаниями физическими лицами, и виновные лица никакой ответственности не несут, вызывает негативную реакцию российского общества в целом.
Уголовным законом установлены и иные составы преступлений, признаки которых могут быть выявлены потерпевшим лишь спустя некоторое, возможно, длительное, время. Совершение преступления, предусмотренного составами статьи 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав), может быть обнаружено законным автором, правообладателем по истечении или на грани истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Как указал Верховный Суд РФ, «Предусмотренные частями 2 и 3 статьи 146 УК РФ незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта следует считать оконченными преступлениями с момента совершения указанных действий в крупном (особо крупном) размере независимо от наступления преступных последствий в виде фактического причинения ущерба правообладателю» (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»).
В случаях преступного нарушения авторского права (плагиата) и истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности потерпевший автор (правообладатель) имеет возможность гражданско-правового восстановления своего нарушенного права. В вышеприведенных хищениях такой реальной возможности у потерпевшего на восстановление его нарушенного или утраченного права собственности зачастую нет. В соответствии с ч. 1 ст. 200 ГК РФ (Начало течения срока исковой давности), если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Данное гражданско-правовое положение справедливо к участникам гражданского оборота, но не влияет: а) на приостановление срока давности привлечения к уголовной ответственности; б) на возможность самостоятельного доказывания обманного хищения имущества; в) на определение в качестве ответчика иного лица, не являющегося стороной гражданских правоотношений.
На основании данного анализа следует прийти к выводу о необходимости дополнить положение ч. 2 ст. 78 УК РФ об исчислении сроков давности привлечения к уголовной ответственности альтернативным начальным моментом их исчисления, направленным на справедливую защиту нарушенного преступлением права собственности потерпевшего, по аналогии с положением в ч. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности в вышеприведенных примерах должны начинать течь не со дня совершения преступления (получения виновным лицом реальной возможности распорядиться похищенным имуществом), а со дня, когда потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении совершенным преступлением своего права собственности (в частности, со дня истечения срока исполнения условий преступного договора; со дня получения сведений из ЕГРН о другом собственнике квартиры; со дня составления акта ревизии, официального отчета и других объективных обстоятельств). Изложить соответствующее положение части 2 ст. 78 УК РФ в целях большей справедливости данного уголовно-правового установления можно в следующей редакции: «Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления или со дня, когда по- терпевший узнал или должен был узнать о нарушении совершенным преступлением своего права собственности, и до момента вступления приговора суда в законную силу».
Еще один вопрос по данной теме – положение части 1 ст. 82 УК РФ (Отсрочка отбывания наказания), которое с 2010 года наравне с возможностью предоставления судом отсрочки реального отбывания наказания женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, установило такую возможность и для мужчины, «имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющегося единственным родителем».
Законодательное восстановление гендерной справедливости в ч. 1 ст. 82 УК РФ, направленное, в первую очередь, на заботу о детях, произошло в недостаточной степени последовательно ввиду установления для мужчины статуса «единственного родителя» ребенка в возрасте до четырнадцати лет. Во-первых, при буквальном толковании, мужчина в генетическом (биологическом) смысле являться «единственным родителем», как и женщина, не может. Во-вторых, мать ребенка может не являться умершей, но ее место жительство (нахождения) неизвестно (объективно не установлено) ввиду правового статуса безвестно отсутствующей (ст. 42 ГК РФ) на основании вступившего в законную силу решения суда. В-третьих, у ребенка мать может быть живой, но страдать тяжелой хронической болезнью, делающей невозможным полный должный уход за ребенком в возрасте до четырнадцати лет. В данных случаях мужчина один содержит своего малолетнего (ч. 1 ст. 28 ГК РФ) ребенка и осуществляет уход за ним без участия его живой матери в силу объективно сложившихся обстоятельств.
Однако это возможное социальное родительское положение мужчины не дает ему права на отсрочку от отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста в соответствии с редакцией части 1 ст. 82 УК РФ в силу де-факто земного существования матери ребенка и потому де-юре отсутствия статуса «единственного родителя». Также будет являться спорным практический вопрос о включении в статус «единственного родителя» отца ребенка в случае лишения матери родительских прав. В соответствии с положениями ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации родители, лишённые родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, однако лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка (по- лучателем небольших алиментов от такой матери ребенка может быть его отец).
Таким образом, фундаментальный критерий справедливого равенства и системной последовательности положений уголовного закона выявляет несоответствие действующей редакции части 1 ст. 82 УК РФ не столько гендерной, сколько правовой справедливости. При одних и тех же юридически значимых социальных обстоятельствах лица (отцы малолетних детей) находятся в неравном положении перед уголовным законом в части возможности предоставления им судом отсрочки реального отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Незадолго до введения в действие рассматриваемого положения ч. 1 ст. 82 УК РФ исследователи приходили к выводу о целесообразности изменения действующей редакции ст. 82 УК РФ в части закрепления возможности предоставления отсрочки отбывания наказания «некоторым категориям мужчин, имеющим малолетних детей, при соблюдении установленных законом условий» [3].
В связи с приведенным анализом положения части 1 ст. 82 УК РФ следует прийти к выводу о необходимости справедливой замены в нем формулировки «единственным родителем» в отношении мужчины, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, на формулировку «единственным из родителей, на иждивении которого находится ребенок, и осуществляющим уход за ним». При этом такая формулировка должна исключить случаи, когда отец малолетнего ребенка злоупотребляет уголовным правом, являясь во время применения к нему ст. 82 УК РФ его единственным родителем, но не осуществляя ухода за ним и не участвуя в полной мере в его содержании (например, данный родитель проживает отдельно, с другой семьей и т. п.). В целом законодательно изложить положение части 1 ст. 82 УК РФ можно в следующей редакции: «Беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четыр- надцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет, являющемуся единственным из родителей, на иждивении которого находится ребенок, и осуществляющим уход за ним,… суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста».
Список литературы О справедливости оснований и условий освобождения от уголовной ответственности и наказания
- Сыч К.А. Уголовное наказание и его состав (Теоретико-методологические аспекты исследования): дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2001. С. 204. EDN: NMFGYT
- Фаргиев И.А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 14. EDN: NJUIYZ
- Дядюн К.В. Гендерный подход в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации: влияние на реализацию принципов равенства граждан перед законом, справедливости и гуманизма: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. С. 9, 16. EDN: ZNYJJT