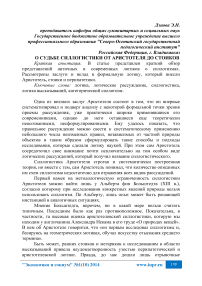О судьбе силлогистики от Аристотеля до стоиков
Автор: Дзиова Э.Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 1-3 (10), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен краткий обзор представлений античных и современных логиков о силлогизмах. Рассмотрены заслуги и вклад в формальную логику, который внесли Аристотель, стоики и перипатетики
Логика, логическое рассуждение, силлогистика, логика высказываний, категорический силлогизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140106901
IDR: 140106901
Текст научной статьи О судьбе силлогистики от Аристотеля до стоиков
Одна из великих заслуг Аристотеля состоит в том, что он впервые систематизировал и подверг анализу с некоторой формальной точки зрения приемы рассуждения, уже практически широко применявшиеся его современниками, однако до него оставшиеся еще теоретически неосознанными, несформулированными. Ему удалось показать, что правильное рассуждение можно свести к систематическому применению небольшого числа неизменных правил, независимых от частной природы объектов и таким образом сформулировать такие способы и подходы исследования, которые сделали логику наукой. При этом сам Аристотель сосредоточил свое внимание почти исключительно на том особом виде логических рассуждений, который получил название силлогистического.
Силлогистика Аристотеля строгая и систематически построенная теория, но вместе с тем, сам Аристотель понимал, что количество описанных им схем силлогизма недостаточно для отражения всех видов рассуждений.
Первый намек на методологическую ограниченность силлогистики Аристотеля можно найти лишь у Альберта фон Больштедта (XIII в.), согласно которому при исследовании конкретных явлений природы нельзя использовать силлогизм. По Альберту, лишь опыт может быть решающей инстанцией в аналогичных ситуациях.
Мнение Больштедта, впрочем, ни в какой мере нельзя считать типичным. Последним было как раз противоположное. Показательна, в частности, та высокая оценка аристотелевской силлогистики, которую мы находим у англичанина Александра Некама в его труде «О природах вещей». В нем об Аристотеле говорится, что «он первым исследовал силлогизмы и, базируясь на геометрических мотивах, обучал искусству отыскания среднего термина».
Быть может, ранних стоиков и мегариков к исследованиям в области высказываний привела неудовлетворенность узостью перипатетической и аристотелевской логики. Правда, до нас дошли лишь отрывочные свидетельства о достигнутых стоиками результатах, часто в изложении их противников или посредственных комментаторов, но даже эти фрагменты позволяют судить о том, что система логики стоиков была построена, вероятно, даже более строго, чем аристотелевская. Не ограниченная, подобно Аристотелю, высказываниями субъектно-предикатной структуры, в ней сформулированы правила вывода, относящиеся к высказываниям неопределенной структуры. Стоики не только предвосхитили ряд исходных понятий современного исчисления высказываний, дав определения таким пропозициональным связям, как импликация, конъюнкция и дизъюнкция, но вид своеобразного аксиоматически построенного исчисления придали своей системе формальных правил вывода. Обсуждение стоиками вопроса об условиях истинности импликации отражает то, насколько они основательно подошли к исследованию понятий своей системы. Разработка стоиками понятий пропозициональной логики объективно способствовала выяснению логических оснований силлогистики. «Логика высказываний является более фундаментальной системой, нежели силлогистика, во-первых, потому, что при своем строго формализованном и систематическом изложении (чего, вообще говоря, еще не было у Аристотеля) сама силлогистика должна опираться на понятия и законы, устанавливаемые в пропозициональной логике, в то время как последняя не предполагает законы силлогистики; во-вторых, потому, что логика высказываний лежит в основе современной математической логики в качестве ее исходной, простейшей, но неотъемлемой части, в то время как силлогистика занимает в ней сравнительно незначительное место.
К сожалению, в последующем идеи пропозициональной логики получили гораздо меньшее распространение, чем силлогистика» [9, с. 57] Многими они были вообще не поняты, а в традиционной логике нашли свое неполное и эклектическое отражение в виде теории условных и разделительных силлогизмов.
Заметное влияние стоическая силлогистика испытала со стороны аристотелевской силлогистики и модальной логики мегарской школы (Диодор, Филон). Основное достижение, воспринятое стоиками от мегариков, заключается в отделении проблемы логического следования как процесса «вытекания» мысли из мысли, детерминирования одним суждением другого суждения, от проблемы истинности каждого суждения самого по себе.
Главное отличие стоической логики от аристотелевской состоит в следующем. Задача аристотелевской логики - установить родо-видовую связь понятий: такая логика оперирует понятиями разрядов сущего и занимается подведением вида под род, частного под общее и т.п. Для нее наиболее характерен категорический силлогизм типа «Все А суть В и т.д.». Задача стоической силлогистики - установление причинной зависимости между различными смыслами и техническое «обслуживание» физики и этики. Здесь наиболее применим условный силлогизм типа «Если 1-ое, то 2ое и т.д.». Вместе с тем стоическая силлогистика выстроена с оглядкой на аристотелевские «Аналитики». Поэтому «совершенный» категорический силлогизм Аристотеля так или иначе должен был присутствовать во всех логических операциях стоиков, ибо без него немыслимо никакое «научное» утверждение, имеющее формально строгий, всеобщий и необходимый характер. Вероятно, стоики молчаливо выносили категорический силлогизм «за скобки», считая его чем-то самоочевидным. Основу стоической силлогистики составляет подкласс полных лектон, именуемых высказываниями или суждениями.
Подлинным открытием существа стоической логики были работы Я.Лукасевича, который еще в 1923 г. высказал мысль о том, что именно стоики создали исчисление высказываний, а в 1934 г. подробно ее обосновал. Отличие стоической логики от перипатетической Я.Лукасевич усматривал в том, что первой вводятся пропозициональные переменные, во второй - именные. Лукасевич показал, что в качестве пропозициональных переменных стоики употребляли не буквы, как мы сейчас, а порядковые числительные: «если первое, то второе; но первое; следовательно, второе». Это обстоятельство было хорошо понятно их современникам и преемникам (подтверждение он нашел у Апулея).
Ян Лукасевич видит отличие между стоической и аристотелевской логикой не в том, что в стоической диалектике присутствуют гипотетические и дизъюнктивные высказывания, тогда как в аристотелевской силлогистике - только категорические. Отличие в том, что «логика стоиков - это логика высказываний, а аристотелевская - логика имен».
Следующий существенный момент - это отличие между аристотелевским силлогизмом и стоическим высказыванием, и заключалось оно в том, что высказывание стоиков имеет форму вывода. Стоики пытались сформулировать общие методы получения правильных умозаключений в виде правил вывода. Они понимали правило вывода как предписание того, что на основе признанного положения можно выводить новое.
И у стоиков и Аристотеля в силлогизмах используются две посылки и заключение, но в силлогизме Аристотеля они соединены в единое предложение. В высказывании стоиков посылки и заключение не составляют единого предложения.
Стоикам принадлежит первенство в исследовании проблемы истинности сложных высказываний. Истинность сложного высказывания стоики рассматривали как функцию от истинности исходных высказываний.
Стоики не придавали большого значения категорическому силлогизму, что следует из их определения силлогизма как состоящего из леммы и допущения и что подкрепляется информацией Александра Афродизийского и Секста Эмпирика. О том же свидетельствуют и конкретные примеры умозаключений, дошедшие до нас от стоиков в других исторических документах.
Александр Афродизийский упрекал стоиков в непонимании того, что существо силлогизма заключается не в словах, а в том, что слова означают. Тем самым перипатетики обнаружили непонимание формализации, достигающей в логике стоиков уровня, когда опираются на слова, а не на их значения, что только и позволяет получать выражения, истинные в силу формы.
Автор одного из пособий по истории логики Генрих Шольц противопоставляет логику стоиков логике Аристотеля, считая, что логика ближайших учеников Аристотеля явилась своего рода новым подходом к логической системе стоицизма.
«Под влиянием Прантля и Целлера в истории философии установился ошибочный взгляд на логику стоиков как на систему, не заключающую в себе ничего нового и оригинального. По мнению Прантля и Целлера, логика стоиков лишь повторяет то, что уже было высказано Аристотелем, она придает лишь новую худшую форму учениям Аристотеля. По оценке Прантля и Целлера, логика скорее потеряла, чем выиграла, от этого ее преобразования. В конечном счете логика стоиков, по мнению Прантля и Целлера, есть пустой и бесплодный формализм. Против этого взгляда известных немецких историков логики впервые выступил французский ученый Виктор Брошар, который, признавая, что Прантль и Целлер изучили логику стоиков весьма тщательно и изложили ее с замечательной ясностью, вместе с тем коренным образом изменяет данную ими интерпретацию этой логики и ее оценку. Брошар отмечает, что в стоической логике принцип, на котором покоится учение о силлогизме, иной, чем в силлогистике Аристотеля. Этим принципом является не общепринятая в формальной логике аксиома силлогизма и не объемное отношение терминов силлогизма. Принцип стоической силлогистики гласит: если вещь представляет всегда определенное качество или определенную совокупность качеств, то она будет также представлять качество или качества, которые сосуществуют всегда с первым качеством или совокупностью качеств. Иначе говоря, в основе стоической силлогистики лежит принцип, сформулированный в средние века так: «Признак признака есть признак самой вещи»» [3, с. 76].
Стоики, создавая особую формальную систему - исчисление высказываний, главной своей задачей ставили выявление самой структуры суждений и поиск возможности наиболее точного описания.
Истинное знание может обеспечить только разум, способный к созданию общих понятий и выражающийся в том, что стоики называли «lekton». Учение стоиков знаменует собой колоссальный скачок, переход на новый уровень осмысления действительности.
В отличие от Аристотеля, стоиков в большей степени, чем формы мысли, интересовали словесные выражения, их смысл. В проблемах общих понятий и лектон проявился семантический аспект логики Стои.
Заметим, что согласно логикам стоической школы, строгое соблюдение правил формальной логики гарантирует лишь правильность умозаключения (обеспечивает следование вывода из посылок), но не материальную истинность вывода. Секст Эмпирик свидетельствует по этому поводу так: «И они (стоики) говорят, что доказательная речь убеждает в том, что она доказательна, когда вывод следует из посылок доказательства, будучи с ними тесно связанным (греч. συναπει ον), - как, например, такое рассуждение, которое мы можем делать днем: «если ночь, то темно, но ночь, значит темно», хотя это не истинно, так как ведет ко лжи, - мы, однако говорим, что это доказательно». По уровню формализации логическое учение стоиков превосходит предшествующие ему теории Аристотеля и перипатетиков.
Приблизительно ко II в.н.э. постепенно намечается процесс интеграции стоической и перипатетической логических школ. Типичным образцом подобного рода синкретизма может служить учебник логики знаменитого писателя Люция Апулея, который был известен в научных кругах как автор сочинения «О Платоне и его догмате». Третью часть этого труда и представляет собой упомянутый учебник. Последний написан на латинском языке. Анализ текста наводит исследователей на мысль, что он является переработкой, а, возможно, даже и переводом неизвестного греческого оригинала. В него введены: специальная терминология в связи с делением суждений по количеству и качеству; логический квадрат, а также дедукция правильных модусов простого категорического силлогизма, исходящая из предварительного учета числа возможных комбинаций суждений в посылках. Апулей внес заметный вклад в латинскую логическую терминологию.
Стоические логические достижения были апогеем в эволюции логических идей античности. После них развитие логики пошло по нисходящей линии, и начиная со II в. до н.э. наблюдается усиление и расширение кризиса.