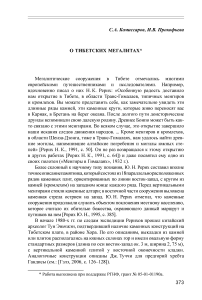О тибетских мегалитах
Автор: Комиссаров С.А., Прокофьева И.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521219
IDR: 14521219
Текст статьи О тибетских мегалитах
Мегалитические сооружения в Тибете отмечались многими европейскими путешественниками и исследователями. Например, вдохновенно писал о них Н. К. Рерих: «Особенную радость доставило нам открытие в Тибете, в области Транс-Гималаев, типичных менгиров и кромлехов. Вы можете представить себе, как замечательно увидеть эти длинные ряды камней, эти каменные круги, которые живо переносят вас в Карнак, в Бретань на берег океана. После долгого пути доисторические друиды вспоминали свою далекую родину. Древнее Бонпо может быть как-то связано с этими менгирами. Во всяком случае, это открытие завершило наши искания следов движения народов Кроме менгиров и кромлехов, в области Шенза-Дзонга, тоже в Транс-Гималаях, нам удалось найти древние могилы, напомнившие алтайские погребения и могилы южных степей» [Рерих Н. К., 1991, с. 50]. Он не раз возвращался к этому открытию в других работах [Рерих Н. К., 1991, с. 64]) и даже посвятил ему одно из своих полотен («Менгиры в Гималаях», 1932 г.).
Более склонный к научному типу познания, Ю. Н. Рерих составил вполне точноеописаниепамятника, которыйсостоялиз 18 параллельнорасположенных рядов каменных плит, ориентированных по линии восток-запад, с кругом из камней (кромлехом) на западном конце каждого ряда. Перед вертикальными менгирами стояли каменные алтари; в восточной части сооружения выложена каменная стрела острием на запад. Ю. Н. Рерих отметил, что каменные сооружения продолжали служить объектом поклонения местному населению, которое считало их обителью божества, охраняющего данный маршрут и путников на нем [Рерих Ю. Н., 1995, с. 385].
В начале 1980-х гг. по следам экспедиции Рерихов прошел китайский археолог Тун Эньчжэн, подтвердивший наличие каменных конструкций на Тибетском плато, в районе Хора. По его описаниям, выкладки из камней или плиток располагались на южных склонах гор и имели овальную форму стандартных размеров (длина по оси восток-запад ок. 3 м, ширина 2, 75 м), с вертикальной каменной плитой у восточной оконечности кладки. Аналогичные конструкции описаны Дж. Туччи для предгорий хребта Гандисы (см.: [Гэлэ, 2006, с. 126–128]).
Идеи Рерихов о возможных связях каменных конструкций Северного Тибета с алтайскими материалами вполне сочувственно воспроизведены современными исследователями их творчества, в числе которых ведущий специалист по археологии Северной Азии, ак. В. И. Молодин, что придает данной концепции дополнительную историографическую основательность [Лазаревич, Молодин, Лабецкий, 2002, с. 51–53].
Данная проблема получила освещение в серии публикаций американского ученого Дж. Белезы, который обследовал памятники на территории Северного и Западного Тибета, в т. ч. в районе деятельности Центрально-Азиатской экспедиции 1920-х гг. На плато Чантан, на высоте 4500 м над уровнем моря он изучил стены, выложенные из камня, и определил их как жилища и храмы добуддистского населения, которое связал с государством и этносом шангшунгов. Также он выделил «древнее кладбище, состоящее из каменных кругов и небольших курганов, протянувшихся примерно на 1 км . Сооруженные вдоль длинного уступа, эти погребальные конструкции составляют в среднем 2–3 м в диаметре. Круги и насыпи напоминают захоронения, создатели которых, как правило, уже вступившие в железный век, принадлежали к различным центральноазиатским культурам, таким как хунны и скифы». В районе Черных гор им обнаружена вертикально стоящая стела, напоминающая оленные камни [Belezza, 1998, fig. 10]. В другой публикации Дж. Белеза фиксирует каменные столбы, расположенные у западной стенки каменных оградок. Местные жители называют их коновязью Гесэра. «Столбы возвышаются над землей на высоту 1,8 м и нередко выстроены рядами, в которые входит от 3 до 10 камней. Там, где столбов несколько, они нередко сделаны из камня контрастных цветов. Сами оградки первоначально наверняка были выше, но сейчас все они без исключения находятся на уровне земли». Преобладают квадратные сооружения со стороной 8 м. Среди добуддийских памятников в Западном Тибете выделяются также ровные ряды стоячих камней, образующие в плане четырехугольники. Их высота от 0,25 до 1,5 м, а количество в одном комплексе может исчисляться сотнями. Встречаются как необработанные, так и подвергшиеся обработке камни.
Наиболее крупное местонахождение менгиров Дж. Белеза обнаружил в 35 км к югу от оз. Дангра Юмцо. Местечко Сумбуг Доринг расположено напротив священной горы Тарго Гегэн. Там находится более 1000 стоячих камней, высотой от 0.3 до 1.5 м. Менгиры выстроены в два четырехугольника, один состоит примерно из 800 стел, другой, соответственно, из 200 камней [Bellezza, 1999а]. Подобные «поля менгиров» встречаются и в других местах, по соседству с руинами древних строений, с восточной стороны от зданий [Belezza, 1999б, fig. 25–30]. Еще несколько местонахождений менгиров обнаружено в ходе экспедиции по высокогорным долинам в уездах Ньима и Дронгпа. В местечках До Ланг Ньидрик и Джори Доринг стоячие камни заключены в прямоугольные оградки.
В Луг До Мон Дур Кунг вместе с большим количеством менгиров, выстроенных в двух направлениях, исследователь обнаружил разрушенные погребальные конструкции. В Цанг Донг Мондо стелы выстроены в трех различных направлениях, и также имеются погребальные сооружения [Bellezza, 2006].
Дж. Белеза отмечает, что использование стоячих камней в погребальных комплексах, распространенное в Северо-Западном Тибете, не встречается в центральных и восточных районах. Судя по обстоятельствам обнаружения, данная традиция тесно связана с древними погребальными обычаями Центральной Азии. «Эти столбы, а также петроглифы, нередко находящиеся поблизости от них, доказывают, что в эпоху железа государство Шангшунг имело тесные культурные связи с Монголией, Алтаем и Южной Сибирью» (см.: [ An Introduction ]). Еще в одной статье Дж. Бе-леза определяет отдельно стоящие камни как поминальные памятники и сравнивает их с тагарскими стелами [Бэй Лэша, 2004, с. 11]. Однако ранее он датировал менгиры в Сумбуг Доринг концом неолита – началом бронзы, в любом случае, ранее железного века, поскольку упоминания о почитании мегалитов отсутствуют в священных книгах религии бон [Bellezza, 1999а]. Можно видеть, что по вопросу о датах и истоках мегалитических сооружений существует много противоречий. С учетом того, что ни на одном из выше описанных памятников научные раскопки не проводились, высказанные соображения носят предварительный характер. Немногочисленные материалы, отнесенные ранее к «культуре шанг-шунгов», датируются периодом второй половины I тыс. (вероятно, III– II вв.) до н. э. [Комиссаров, 2002].
Если обратиться к семантике изваяний, то антропоморфность отдельных фигур позволяет соотнести их с антропогенетическими мифами. Мотив рождения человека из камня встречается у многих народов, но наибольшее распространение зафиксировано на островах Индонезии и Южных морей. На материке почитание больших камней (в форме человека или тигра) как предков описано у народа пуми Юньнани (язык которых относят к цянской ветви тибето-бирманской группы). Реминисценции на эту тему в китайской классической литературе (миф о рождении Юя и его сына Ци) связывается с древнецянскими племенами [Ли Фуцин, 2001, с. 73, 74]. В Тибете также записана сказка о «каменном льве» (лев – явное влияние буддизма; первоначально, скорее всего, фигурировал каменный тигр, как у пуми), которому приносят жертвы (кормят) и у которого получают награду [Волшебное сокровище, 1997, с. 148–151].
Сложность состоит в том, что в культурах древних цянов на территории Ганьсу-Цинхая следов мегалитических сооружений не обнаружено. И хотя юго-восточное происхождение данной традиции в Тибете, судя по приведенным данным фольклористики, полностью исключить нельзя, но исходя из концентрации памятников на северо-западе региона, более оп- равданной представляется гипотеза центральноазиатских контактов, высказанная еще Рерихами. Для эпохи раннего железа наибольший интерес представляет традиция оленных камней. Ближайшее местонахождение памятников этого типа, состоящее из 10 изваяний – в Баоцзыдун (округ Аксу, Синьцзян) – находится как бы на полпути между основным районом их концентрации в Южной Сибири и Западной Монголии, с одной стороны, и зоной тибетских мегалитов, с другой [Комиссаров, Астрелина, 2005]. Однако вопрос о возможности прямого проникновения данной традиции в Тибет остается открытым. Его решение требует более тщательной публикации выявленных каменных стел и обязательных раскопок связанных с ними курганов и выкладок.
В заключение вернемся к упоминавшейся картине Н. К. Рериха. На ней «тибетский менгир» несет изображение кинжала, что характерно для оленных камней. Мы не можем сказать, рисовал ли Н. К. Рерих с натуры или объединил в художественном произведении различные исходные элементы, которые наблюдал на разных памятниках. Если камень с отмеченными деталями найдут в Тибете, то можно будет говорить о прямых контактах «цивилизации шангшунгов» с культурами скифо-сибирского круга. Пока же данное полотно служит своеобразным ориентиром в дальнейших поисках. Ведь известно, как часто интуиция художника прокладывала путь для научного исследования.