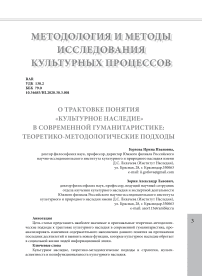О трактовке понятия "культурное наследие" в современной гуманитаристике: теоретико-методологические подходы
Автор: Горлова Ирина Ивановна, Зорин Александр Львович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи представить наиболее значимые и оригинальные теоретико-методологические подходы к трактовке культурного наследия в современной гуманитаристике, проанализировать изменения содержательного наполнения данного понятия на протяжении последних десятилетий и выявить новые функции, которые культурное наследие обретает в социальной жизни людей информационной эпохи.
Культурное наследие, теоретико-методологические подходы и стратегии, мультиаспектность и полифункциональность культурного наследия
Короткий адрес: https://sciup.org/170174220
IDR: 170174220 | УДК: 130.2 | DOI: 10.34685/HI.2020.30.3.001
Текст научной статьи О трактовке понятия "культурное наследие" в современной гуманитаристике: теоретико-методологические подходы
Понятие «культурное наследие» в настоящее время широко используется в гуманитарных исследованиях и в практиках, направленных на сохранение памятников прошлого, имеющих важное значение для национальной памяти и са-моиндентификации того или иного народа. При этом под культурным наследием подразумеваются, как правило, материальные или духовные ценности, которые были созданы предшествующими поколениями и не утратили своей жизненной силы, воспринимаются современниками как что-то значимое и почитаемое.
В такой трактовке наследие предстает как социальный опыт предыдущих поколений, который транслируется из прошлого в настоящее и далее в будущее как некий массив застывших форм и законсервированных традиций. Неслучайно данный тренд получил в среде его критиков название «музеефицирующий». Однако, как показывает жизнь, каждая эпоха в связи с политическими, экономическими и социокультурными изменениями модифицирует историческое сознание людей, изменяет их ценностные предпочтения, преобразует их мировоззрение и миропонимание. В силу этого приходит осознание того, что культурное наследие не есть нечто консервативное и незыблемое, а, напротив, предстает как «явление чрезвычайно гибкое и податливое к трансформациям»1. Значит, оно должно меняться параллельно с изменениями, происходящими в социальной реальности, развитием научного познания и сменой ценностных ориентаций, что с особой настойчивостью подчеркивают сторонники «реновационного» тренда.
Приспособление наследия к современным условиям в значительной мере меняет его ценностное и символическое значение, высвечивает новые грани и аспекты данного феномена, усиливая его экономическую и утилитарно-прагматическую составляющую; для более адекватного его описания и анализа требуется, чтобы использовались «релевантные теоретико-методологические стратегии»2, что, в свою очередь, побуждает ученых создавать разнообразные методологии исследования, которые существенно разнятся между собой, доходя порой до диссонирующих и даже конфронтирующих друг с другом точек зрения.
С учетом вышеизложенного, цель статьи состоит в том, чтобы выявить наиболее значимые и оригинальные теоретико-методологические подходы к анализу культурного наследия, проанализировать, как меняется благодаря им содержательное наполнение данного понятия на протяжении последних десятилетий, обратить внимание на то, какие новые функции культурное наследие обретает в социальной жизни людей информационной эпохи, и, наконец, поразмыслить над тем, нужна ли некая всеохватывающая дефиниция данного понятия или являются достаточными его узко специфические определения для практического решения конкретных задач.
Приступая к рассмотрению основных теоретико-методологических походов, существующих в современном научном познании, необходимо учитывать ряд обстоятельств, которые обусловливают разнообразие представленных позиций.
Во-первых, следует признать, что само культурное наследие представляет собой структурно сложную и многоуровневую систему, эксплицировать разнообразные аспекты которой, несмотря на обилие исследований, посвященных данной теме, в полной мере до сих пор еще не удалось. «В то время как эксперты культуры в различных сферах имеют достаточно ясное представление о предмете своего исследования, - отмечал вполне резонно Л. Протт, – официальное определение культурного наследия – одна из самых сложных точек преткновения для ученых»3.
Во-вторых, поскольку всякая культура является не только мультиаспектной, но и поли-функциональной, то и «изучение культурного наследия может быть полноценным, если мы будем его рассматривать с позиций полифунк- pamyatnikov-kulturnogo-naslediya-na-primere-dvortsovo-parkovogo-ansamblya-tsarskogo (дата обращения: 25.04.2020).
циональности культур»4. И, наконец, если учитывать, что признание каких-то артефактов в качестве культурного наследия зависит во многом от идеологических и политических установок той или иной эпохи, от эстетических и художественных предпочтений и пристрастий, от развития информационных технологий и способов коммуникации, от рассмотрения культурного достояния народа или нации в качестве важного экономического ресурса, способствующего наполнению бюджета путем создания индустрии туризма, то все это должно приниматься во внимание при проведении анализа основных теоретико-методологических подходов, имеющих место в современной гуманитаристике.
Как известно, термин «культурное наследие» был официально введен в научный оборот в принятой в 1972 г. ЮНЕСКО конвенции «Об охране всемирного культурного и природного наследия», в которой было определено, что «культурное наследие включает предметы материальной культуры, памятники, группы зданий и территории, обладающие различной ценностью, включая символическую, историческую, художественную, эстетическую, этнографическую или археологическую, имеющие научное и общественное значение»5. В основе данной дефиниции лежит установка на то, что культурное наследие следует понимать как систему ценностей, которые актуализируются и сохраняются в контексте той или иной культуры. «Сущность культурного наследия составляют те ценности, которые созданы предыдущими поколениями, представляют исключительную важность для сохранения культурного генофонда и способствуют дальнейшему культурному прогрессу»6.
Поскольку до введения в научный оборот термина «культурное наследие» широко использовался концепт «памятник культуры», то воз- никла проблема, как соотносятся друг с другом эти два понятия? Некоторые ученые, понимая под наследием совокупность памятников культуры, утверждали, что это – понятия близкие по смыслу или даже тождественные (М.М. Богуславский, А.А. Копсергенова); другие, напротив, исходя из различных оснований, разводили данные понятия. Так Ю.М. Веденин к культурному наследию относил только то, в чем наиболее самобытно и ярко отражается история развития культуры, что обладает общенациональным или мировым значением, а не любые архитектурные сооружения, археологические памятники или историко-мемориальные объекты. В свою очередь, Т.М. Миронова отмечала, что понятие «памятник» ассоциируется прежде всего с сохранением чего-то в памяти и воспоминанием о нем, в то время как культурное наследие делает акцент на то, что было передано нам предками и должно не просто сохраняться, но интерпретироваться и приумножаться. С.П. Мамонтов, поставив по главу угла перспективы использования культурного наследия, утверждал, что последнее следует рассматривать не как нечто неизменное и статичное, но как изменяющуюся в пространстве и времени динамичную систему. И, наконец, А.Н. Панфилов, выявляя соотношение вышеуказанных понятий, пришел к выводу о том, что «не всякая культурная ценность может относиться к культурному наследию, однако все, что относится к культурному наследию, есть культурная ценность»7.
В процессе исследования культурного наследия значительным эвристическим потенциалом обладает системный подход, который опирается на органицизм, имеющий в качестве своих производных гештальт-культурологический и архитектонический подходы. Родоначальниками гештальт-культурологического подхода считаются И.В. Гёте и И.Г. Гердер, которые исходили из постулата, гласящего, что организм как некая целостность не сводим к сумме своих составных частей. На основе этого утверждения Гёте разработал концепцию морфогенеза живых форм, в которой организм трактуется не в сугубо биологическом ключе, а в качестве целостного типа системной организации. Для выражения представления о данной раз- новидности целостности немецкий писатель и ученый использовал слово «Gestalt», обозначающее прочное сочленение частей в составе целого. При этом специфика гештальта, согласно Гёте, состоит в том, что в нем «нет ничего устойчивого, ничего покоящегося, законченного»8. Это придает целостным образованиям характер процессуальности, позволяя диалектически соединить устойчивое с неустойчивым, неизменное с изменчивым, инвариантное с вариативным. Такой подход оказался вполне применимым не только к культуре как некой органической целостности, но и к изучению объектов культурного наследия, в частности дворцово-парковых ансамблей, представляющих собой сложные «организмы», состоящие из разнородных, но в то же время органически сочлененных частей.
Архитектонический подход, который разработал И.В. Кондаков, представляет культурное наследие в виде сложноорганизованной и динамичной целостности, порождение которой связано с процессом напластования присущих ему различных состояний. В такой оптике наследие предстает как постоянно нарастающая «лестница смыслов» или своеобразная «ступенчатая пирамида» культурных значений9. Использование этого подхода позволяет раскрыть многослойную архитектонику культурного наследия, дать анализ его актуальной и потенциальной составляющих, в рамках которых осуществляются постоянные трансформации.
Системный подход к культуре четко прослеживается в трудах Ю.М. Лотмана, М.С. Кагана и А.Я. Флиера, в работах которых культура предстает как сложная многоуровневая система, где осуществляется интеграция наследуемых артефактов и смыслов, закодированных посредством универсальных семиотических кодов. В лоне системной парадигмы проводит свои исследования А.А. Мазенкова, которая рассматривает культурное наследие в качестве информационной подсистемы культуры. Весьма существенными для развития методологической базы в области изучения наследия стали разработки П.М. Боярского и других сотрудников Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, которые отказываются сводить культурное наследие лишь к комплексу различных памятников, ибо в качестве единицы охраны у них выступает уже не памятник или ансамбль, но территория (культурный ландшафт) как окружающая памятники «исторически сформированная среда», которая «охватывает не только материальные элементы и их пространственные связи, но и поведенческие акты, способы жизнедеятельности, т.е. в содержание этого понятия включается и сам человек»10. В результате культурное наследие начинает пониматься как антропо-социо-культурная система, которая испытывает трансформации под влиянием человеческой деятельности.
В этой связи уместно упомянуть о деятельностном подходе, который впервые был представлен Э.С. Маркаряном, а в дальнейшем разрабатывался М.С. Каганом и рядом других ученых (А.Я. Флиер, М.Е. Кулешева), разделявших его методологические установки. Суть данного подхода заключается в том, что под культурой понимается способ деятельности человека, а также система небиологическим путем выработанных механизмов взаимодействия людей, благодаря которой становится возможной их жизнь в обществе. Или, иными словами, культура есть то, «что и как делает человек и как это на нем отражается» (С.М. Каган). Деятельностный подход позволил преодолеть «суммативное» представление о культуре как некой совокупности результатов человеческой деятельности (по большей части духовного порядка), которые поддаются лишь перечислению и эмпирическому описанию. Благодаря этому культура перестала рассматриваться лишь как «часть общества» или как исключительно «духовная сфера». Она стала включать в себя все стороны общественной жизни, все многообразие форм и видов общественной практики. В рамках указанного подхода человеческая история перестала быть историей вещей или идей, а предстала как история людей, стремящихся к реализации своей целостной и свободной индивидуальности. На этой основе появляется возможность уяснить, чем отличает- ся социализация индивида от его культурации, поскольку первый процесс есть не что иное, как «включение человека в существующую систему общественных отношений», тогда как второй предполагает его приобщение к культурному наследию. В результате, как отмечает М.С. Каган, культура обретает присущее ей качество – быть «ненаследственной памятью человечества», или «внегенетическим способом хранения и передачи вырабатываемой человечеством информации»11.
А.Я. Флиер исходит из того, что жизнь людей определяется двумя факторами: 1) биологическими процессами, происходящими в их организмах, и 2) «двигательной и умственной активностью, направленной на взаимодействие с внешней средой», которая обозначается термином «деятельность». В основе последней лежат интересы и потребности человека, который по сути своей является социальным существом, а значит, членом какого-то сообщества или коллектива. Но удовлетворение собственных потребностей одними членами сообщества может нарушать интересы других его членов, и, чтобы этого не происходило, люди создают своеобразные «правила игры». Система этих правил или «социальных конвенций» и называется культурой. Как сложное образование культура «включает в себя подсистемы социальной коммуникации и трансляции социального опыта от поколения к поколению»12, позволяющие осуществлять «межпоколенное наследование» традиционных норм и правил поведения, а также их постепенное изменение и обновление. Таким образом, именно человеческая деятельность, включающая в себя моменты освоения и наследования, творчества и инновации, с точки зрения сторонников данного подхода, является движущей силой развития как исторического процесса в целом, так и отдельно взятого индивида.
Семиотический подход к культурному наследию представлен в трудах Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского. Исходя из того, что культура – это сложная организованная система текстов, ученые утверждают, что в ней последние «выпол- няют по крайней мере две основные функции: адекватную передачу значений и порождение новых смыслов»13. При этом для выполнения первой функции необходимо полное совпадение кодов говорящего и слушающего, что ведет к максимальной однозначности текста. Для порождения же новых смыслов, текст не может быть пассивным носителем ранее вложенного в него содержания, а выступает своего рода генератором. Но очевидно, что сам по себе он ничего генерировать не в состоянии, не вступив в отношения с аудиторией для реализации собственных генеративных возможностей. А как известно, аудитория состоит из людей, и память каждого, кто вступает в контакт с текстом, в свою очередь, может рассматриваться как текст, взаимодействие с которым способно приводить к творческим изменениям в существующей информационной цепи. По аналогии с текстами, понимаемыми в специфическом смысле, допустимо утверждать, что контакт с другой культурой (или культурами) может выступать в качестве «спускового механизма», приводящего в движение генеративные процессы.
Этот же принцип Ю. М. Лотман переносит на функционирование культурного наследия. Вот почему наследие рассматривается им в виде совокупности текстов, посредством которых в изменившихся исторических условиях способны актуализироваться «культуротворящие» механизмы «в континууме новых социальнокультурных контекстов». Наследие как текст, представляющий собой коллективную культурную память, обладает способностью непрерывно пополняться информацией, актуализировать одни ее аспекты при частичном или полном забвении других. Переходя из одного культурного контекста в другой, оно высвечивает до поры до времени не проявляющие себя составляющие собственной кодирующей системы. При этом важным является не то, что представляет собой культурное наследие само по себе, а то, как оно воспринимается современными людьми, как они его прочитывают и какое значение оно приобретает в актуальной культуре.
Ученый подчеркивал, что существует принципиальная разница между технологическими элементами культуры, где каждое новое изобре- тение заставляет «сдать в музей» предшествующие, и компонентами наследия, по отношению к которым применима иная схема, предполагающая, что «семиотические аспекты культуры развиваются скорее по законам, напоминающим законы памяти, при которых прошедшее не уничтожается и не уходит в небытие, а, подвергаясь отбору и сложному кодированию, переходит на хранение, с тем, чтобы при определенных условиях заявить о себе»14.
Ряд исследователей обращают особое внимание на информационную составляющую культурного наследия. «Именно наследие лежит в основе информационных кодов, которые обеспечивают “производство”, накопление и передачу информации в человеческой цивилизации, – отмечает Е.Н. Мастеница. – Таким образом образуется система взаимосвязей между культурой, наследием и информацией, функционирование которой и позволяет воспроизводить и совершенствовать достижения культуры для новых поколений человечества»15. Информационный компонент культурного наследия акцентируется также М.Е. Кулешовой, которая пишет: «Наследие можно рассматривать как информационный потенциал, запечатленный в явлениях, событиях, материальных объектах и необходимый человечеству для своего развития, а также сохраняемый для передачи будущим поколениям»16. Начиная с последнего десятилетия ХХ в. в связи в бурным развитием информационно-коммуникационных технологий этот подход только усиливает свои позиции в проводимых исследованиях, и этому во многом способствует появление и широкое распространение культурного наследия в цифровом формате, изучение и практическое использование которого ставит проблему поиска новых методологий, возникающих на стыке естественнонаучного и гуманитарного познания.
Поскольку культурное наследие представляет собой совокупность культурных достижений народа, своеобразный арсенал его исторического опыта, сохраненного в памяти, возникают культурологические исследования, в которых понятия наследия и памяти оказываются неразрывно связанными. В научной литературе их называют феноменологическими концепциями культурного наследия, хотя они опираются не на философскую феноменологию Э. Гуссерля, а скорее на литературно-художественную установку М. Пруста, занятого «поиском утраченных времен».
Основными представителями феноменологического подхода к культурному наследию являются историки П. Нора и Д. Лоуэнталь. В концепции П. Нора наследие оказывается неразрывно связанным с памятью, антиподом которой является история. «Память – это жизнь, носителями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в процессе постоянной эволюции, открыта диалектике запоминания и амнезии»17. История как наука, напротив, есть всегда «проблематичная и неполная реконструкция» того, чего уже больше нет. Стало быть, память оказывается вечно переживаемой связью с настоящим, в то время как история представляет собой всего лишь репрезентацию прошлого. Исходя из этой установки, ученым подчеркивается искусственная природа «памяти-истории», в связи с утратой современным европейским обществом механизмов передачи памяти в качестве живой традиции и, соответственно, превращение наследия из естественной потребности сохранения прошлого «в продукт продуманной политики и объект манипуляции». Это ведет к своеобразному «парадоксу наследия»: с одной стороны, вовлеченное в процесс непрерывной трансформации и обновления современное общество ценит новое выше старого, как и будущее выше прошлого; а, с другой, – стремится сохранить артефакты не только прошлого, но и настоящего посредством причисления к наследию всего, что потенциально может быть со временем утрачено. Меняется в современном обществе и статус наследия, поскольку из имущества, которым владеют по пра- ву наследования, оно превращается в имущество, «которое конституирует нас».
Аналогичной позиции придерживается Д. Ло-уэнталь, поскольку, по его мнению, культурное наследие сохраняют не ради него самого, не ради сбережения реликтов прошлого, не ради извлечения каких-то уроков из опыта времен минувших, а исключительно «для утверждения и возвеличивания настоящего». При таком подходе прошлое предстает как «чужая страна», облик которой во многом определяется сегодняшними пристрастиями, тревогами и озабоченностями людей современного общества. С учетом этого культурное наследие, при всем желании его полностью сохранить и аутентично воспроизвести, всегда подвергается невольным трансформациям, которые его модифицируют столь же существенно, как и преднамеренные манипуляции. В таком случае надо отказаться от представления о «жестко фиксированном наследии» и утвердиться в мысли, что его неизменность есть иллюзия. «Нам нужно такое наследие, с которым мы могли бы постоянно взаимодействовать, такое, в котором сливаются настоящее и прошлое»18. Лишь осуществляя изменения и добавления в то, что мы сберегли, можно сделать наше культурное наследие «реальным, живым и доступным пониманию».
Весьма актуальным в наше время является экологический подход к культурному наследию, основы которого были заложены академиком Д.С. Лихачевым. По его мнению, сохранение природной среды обитания человека представляет собой не менее важную задачу, чем сохранение памятников культуры прошлого. Ученый утверждал, что к культуре принадлежит не только то, что создал своими руками человек, но и природная среда, в которой протекает его жизнедеятельность, поэтому можно говорить не только о природных, но и о «культурных ландшафтах».
Он призывал отказаться от все еще широко распространенной установки на «покорение природы» и считал, что с нею нужно «содру-жествовать». «Мы должны все время помнить о том, – писал Д.С. Лихачев, – что задача сохранения культуры не сводится лишь к тому, чтобы запереть какой-нибудь памятник в музей, что сохранение морей, рек, лесов, лугов со всеми их обитателями – все это расширенная задача сохранения культуры…»19.
Исходя из этих соображений, объем понятий культуры, сохранения культуры и культурного наследия должен постоянно расширяться. Это указывает на то, что традиция противопоставлять природу и культуру, понимая под первой действительность, не затронутую культурой, а под второй – искусственно созданную среду, уже не соответствует духу времени. Поскольку субъектом всех преобразований является человек, то проблема наследия не получит адекватного решения без принятия во внимание обустройства жизненной среды его обитания.
В последние десятилетия культурное наследие все чаще выступает в качестве эффективного ресурса развития экономики как стран в целом, так и их отдельных регионов. Это позволяет выделить в качестве особой категории экономический подход. Основными направлениями его актуализации становятся «приватизация памятников с наложением обременения на частных собственников; усовершенствование объектов наследия; развитие культурного и познавательного туризма и создание на базе объектов наследия туристических продуктов и брендов; продажа “ауры” исторического и культурного наследия; активное участие общества, и прежде всего местных жителей, в сохранении культурного наследия и его интеграции в социальный и экономический сектор («витализация»); интеграция наследия в повседневную жизнь»20.
Так как любой крупный или значимый для государства или отдельных его субъектов социально-экономический проект может быть осмыслен сквозь призму «живого наследия», то о последнем можно говорить как о своеобразном «символическом капитале», становящемся неотъемлемым элементом политического и социально-культурного престижа той или иной страны.
И, наконец, нельзя обойти стороной охранительно-правовой подход, в рамках которого наследие осмысливается, не только исходя из на- учных концепций и теорий, но и на основе юридических документов, а также нормативно-правовых актов. Что касается законодательной базы Российской Федерации о культурном наследии и его сохранении, то основу ее составляет Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятый в 2002 г., где дается определение понятия «объектов культурного наследия», к которым относятся «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры…»21. По мнению многих правоведов, такая формулировка создает неудобства не только для понимания, что такое культурное наследие, но и для практического применения данного закона. С одной стороны, юристы признают, что «всякая попытка сформулировать универсальную дефиницию термина “культурное наследие”, которая могла бы быть применима в равной мере в уголовном, административном, гражданском, “культурном” праве, обречена на неудачу» в виду того, что «правовое понятие культурных ценностей должно быть значительно уже, чем философские и культурологические определения»22. Однако, с другой стороны, они обращают внимание на то, что объявление главными признаками объектов культурного наследия их статуса «недвижимости» и «регистрации в реестре» не позволяет подвести под данную категорию объекты движимого имущества, например, шедевры живописи и скульптуры, если они не находятся во дворцах, признанных памятниками культуры, или музеях? Это указывает на то, что в области правоприменения нельзя довольствоваться лишь перечнем объектов культурного наследия, которых может быть бесчисленное множество, не определив, что есть культурное наследие само по себе, путь даже только в сфере юриспруден- ции. Таким образом, проблема формулировки правового определения понятия «культурное наследие» остается крайне актуальной, дабы избежать в дальнейшем всякого рода юридических казусов и коллизий.
В последние годы, особенно с развитием концепции цифрового культурного наследия, помимо подходов, активно практикуемых в гуманитарных науках, начинают все больше использоваться методологии, находящие применение в естественнонаучном познании. Ярким примером тому может служить намеченное на 2020 г. проведение конференции с многозначительным названием «Интегрируя мульти-дисциплинарные подходы для более глубокой характеристики, интерпретации и сохранения наследия», где предполагается обсудить, «помимо всесторонней аналитики, биологический и инженерный подходы»23, благодаря которым придается устойчивая междисциплинарная природа проводимым исследованиям.
В заключение следует отметить, что рассмотренные нами подходы редко в проводимых исследованиях используются порознь и в чистом виде. Достаточно сослаться на творчество академика Д.С. Лихачева, в научных трудах которого разносторонне анализируются и аксиологический, и информационно-символический, и системный, и экологический срезы понятия «культурное наследие», благодаря чему высвечиваются его разные грани и аспекты. Такая же ситуация наблюдается в работах других ученых. Это указывает на то, что граница между разными подходами является весьма условной и крайне расплывчатой. В то же время с каждым из существующих подходов связан широкий круг терминологии, которую можно распределить по следующим рубрикам: 1) «ценностно-гуманитарная», которая связана с тем, что сущность культурного наследия определяется теми ценностями, которые создали предыдущие поколения и которые составляют культурный генофонд нации, способствующий ее выживанию и дальнейшему прогрессивному развитию; 2) «информационно-символическая», основу которой со- ставляет неразрывная связь между наследием, информацией и семиосферой, благодаря которой происходит коммуникация между людьми и создаются новые смыслы существования; 3) «экономическая», напрямую связанная с тем, что наследие может использоваться как важный ресурс экономического развития стран и регионов, создания разнообразных продуктов туристической индустрии и брендов; 4) «охранноправовая», представляющая наследие в ракурсе имущественных и правовых отношений, а также способов и путей его сохранения и легитимации. При этом понятийный аппарат, созданный для концептуализации знаний о культурном наследии, постоянно претерпевает изменения в связи с тем, что меняются научные представления о памятниках культуры, перечень включаемых в них объектов, а также политическая и идеологическая ситуация в современном мире.
Что касается дефиниций культурного наследия, то количество их с каждым годом растет, а диапазон разнообразится от самых широких и всеохватывающих, наподобие той, что была представлена П. Ховардом, предложившим рассматривать в качестве культурного наследия «все то, что должно быть сохранено на настоящий момент с целью последующего использования»24, которое многим исследователям представляется крайне абстрактным и пустым, до непомерно узких и трудно применимых к столь многоаспектному и полифункциональному феномену, каковым является культурное наследие. Необоснованными и вызывающими удивление представляются также сетования некоторых ученых на то, что, несмотря на обилие дефиниций, понятие «культурное наследие» до сих пор еще не эксплицировано в полной мере. Этого не может быть в принципе, поскольку процесс познания неисчерпаем и бесконечен. Неоспоримо то, что разнообразие характеристик, дающихся культурному наследию, во многом определяют те цели и задачи, которые ставят перед собой ученые-теоретики или специалисты-практики.
И, наконец, важно отметить, что в современную эпоху кардинально меняется образ наследия. Если раньше в нем видели прежде всего традиции и обычаи, а также артефакты, полученные от пре- дыдущих поколений, которые нужно было лишь бережно хранить и лелеять, то в наше время оно рассматривается как движущая сила общественного развития, как серьезный социально-политический фактор обновления, как важный экономический ресурс, как стимулятор непрерывного изменения повседневной жизни людей.
Тем самым культурное наследие «из некой пассивной оболочки культуры»25 превращается в активный элемент конституирования человеческих сообществ, способствующий их модернизации и динамичному развитию.
Список литературы О трактовке понятия "культурное наследие" в современной гуманитаристике: теоретико-методологические подходы
- Бойко И.Г. Культурные ценности и объем культурного наследия: проблема унификации понятий // https://scienceforum.ru/2014/ article/2014007368 (дата обращения 24.04.2020).
- Бондарев А.В., Леонов И.В. Теоретико-методологические подходы к изучению памятников культурного наследия (на примере дворцово-паркового ансамбля Царского Села) // https://cyberleninka.ru/article/n/teoretikometodologicheskiepodhody-k-izucheniyu-pamyatnikovkulturnogo-naslediya-na-primere-dvortsovoparkovogoansamblya-tsarskogo (дата обращения: 25.04.2020).
- Гёте И.В. Избранные сочинения по естествознанию. Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. 556 с.
- Замятин Д.Н. Образ наследия в культуре. Методологические подходы к изучению понятия наследия // Социологические исследования. Социология культуры, 2010. № 2. С. 75-82.
- Каган М.С. И вновь о сущности человека // Каган М.С. Отчуждение человека в перспективе глобализации мира: сб. ст. под ред. Б.В. Маркова, Ю.Н. Солонина, В.В. Парцвания. СПб.: Петрополис, 2001. Вып. 1. С. 36-57.
- Флиер А.Я. Культура как смысл истории // Общественные науки и современность, 1999. № 6. С. 155.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом механизме культуры // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1971. Вып. 284. С. 150.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство - СПБ, 2001. С. 615.
- Мастеница Е.Н. Культурное наследие в современном мире: концептуализация понятия и проблематики // Мировая политика и идейные парадигмы эпохи: сб. ст. СПб.: СПбГУКИ, 2008. С. 252.
- Нора П. Проблематика мест памяти // Франция - память. СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 1999. С. 19.
- Лоуэнталь Д. Прошлое - чужая страна. СПб.: Русский остров, Владимир Даль, 2004. С. 617.
- Лихачев Д.С. Память преодолевает время // http://www. nasledie-rus.ru/podshivka/10801.php (дата обращения: 13.04.2020).
- Наумов С.А., Гришанков Д.Э. Культурное наследие и восстановление городской среды // Online Национальный доклад - наш вклад в шанхайскую конференцию. URL : http://rusdb.ru/doclad/ (дата обращения : 12.05.2019).
- Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный закон. Принят Государственной Думой 24 мая 2002 г. Одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г. М.: Ось-89, 2004. С. 2.
- Бойко И.Г. Культурные ценности и объем культурного наследия: проблема унификации понятий // Ы^:// scienceforum.ru/2014/article/2014007368 (дата обращения 24.04.2020).