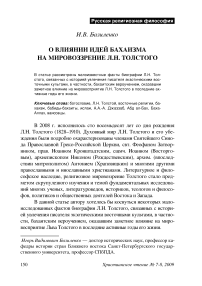О влиянии идей бахаизма на мировоззрение Л.Н. Толстого (1828–1910)
Автор: Базиленко Игорь Вадимович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская религиозная философия
Статья в выпуске: 7-8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены малоизвестные факты биографии Л.Н. Толстого, связанных с историей увлечения писателя экзотическими восточными культами, в частности, бахаитским вероучением, оказавшим заметное влияние на мировосприятие Л.Н. Толстого в последние активные годы его жизни.
Богословие, л.н. толстой, восточные религии, бахаизм, бабидыбахаиты, ислам, а.а.а. джаззаб, абд албах, бахааллах, ваисовцы
Короткий адрес: https://sciup.org/140189864
IDR: 140189864
Текст научной статьи О влиянии идей бахаизма на мировоззрение Л.Н. Толстого (1828–1910)
Известно, что с шестнадцати лет Толстой перестал молиться, поститься, исповедоваться, причащаться, посещать церковные службы. В 1845 г. после одного года учёбы на факультете восточных языков Казанского университета, Толстой был оставлен на второй год за академическую неуспеваемость, по причине отсутствия способности к изучению вышеуказанных языков и перевёлся на юридический факультет, на котором в конце следующего года добился аналогичного «успеха». В университетские годы Л.Н. Толстой слыл известным снобом, но хотел любыми средствами выделиться из числа себе подобных и проявлял себя как ерник, нигилист, гордый и надменный циник, носящий на груди вместо креста изображение Жан Жака Руссо (1712–1778) 1 , которого считал своим учителем. Получив в наследство богатое имение, в 1847 г. Толстой бросил университет и решил заняться реформацией деревенской жизни в новых владениях. После первой неудачи в проведении реформ он немедленно разочаровался в своих проектах, повёл распутный образ жизни, запутался в долгах и довёл хозяйство до грани разорения. Старший брат Николай Николаевич (1823–1860), желая спасти беспутного юношу от гибели, увёз его на Кавказ, где Лев Толстой начал всерьёз страдать «желанием приобрести большое влияние в направлении счастья и пользы человечества» вследствие собственного убеждения в том, что он стоит «на уровне выше обыкновенных людей »2 .
Спустя всего три года, Толстой, во время обороны Севастополя, уже чувствует себя способным стать основателем «новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей блаженства на небе, но дающей блаженство на земле »3 .
Бросив военную службу и живя в Санкт-Петербурге у И.С. Тургенева (1818–1883), Толстой вернулся к беспорядочному образу жизни и прервал его только на время заграничного путешествия. За границей Толстой познакомился с философом и юристом Борисом Николаевичем Чичериным (1828–1904), которому признался в намерении стать религиозным вождём человечеств а4 .
К 60-м гг. XIX в. Л.Н. Толстой был знаком с идеологией гностиков, теософов и оккультистов, масонов-декабристов, петрашевцев, увлекался пантеистическим мировоззрением немецкого писателя-масона И.Г. Гердера (1744–1803), рационалистическими теориями и пантеистической метафизикой французских и английских утопистов. Толстой подружился с А.И. Герценом (1812–1870), с одним из основателей анархизма П.-Ж. Прудоном (1809–1865), труды которого с упоением читал наряду с евангельской критикой Д. Штрауса (1808–1875) и сочинениями позитивиста Э.Ренана (1823–1892). Но уже тогда Л.Н. Толстого крайне интересовали эзотерические учения восточного происхождения и особенно привлекала талмудическая идея переселения душ, заимствованная фарисеями из Вавилона, привитая иудеям и впоследствии широко распространённая по миру в виде теософских и спиритических доктрин.
В 1860 г. во время путешествия по Европе Толстой познакомился с бывшим руководителем Южного общества декабристов масоном С.Г. Волконским (1788–1865) и решил написать антиклерикальный роман «Декабристы». Начав с предыстории вопроса, Толстой создал, таким образом, известную эпопею «Война и мир».
В конце 60-х гг. Толстой восторгался философией А. Шопенгауэра (1788–1860), портрет которого он повесил в своём кабинете, с его восточным идеалом нирваны — отрешенности от мира, растворения личности в небытии и пессимистической этикой.
В конце 70-х гг. XIX в. Л.Н. Толстой переживал глубокий душевный кризис, связанный с полным отсутствием веры в Бога и появ- лением в его сознании саморазрушительных импульсов5. По времени это совпало с завершением романа «Анна Каренина» (1877), и автор вложил множество высказываний в уста своего героя Левина, отражавших мучительных поиск иных духовных ценностей самого Толстого.
Религиозным проблемам Толстой всегда формально придавал первостепенное значение. Отказ от соблюдения церковной обрядности, сознательное желание Толстого выйти из лона православной церкви привели его к отвержению христианства и заставили искать нехристианских учителей в стремлении обрести «истинную веру». Формально для исследования исторических основ христианства, а на самом деле в поиске иных «истин», в 1882 г. Толстой обратился за помощью к иудеям, к тогдашнему московскому раввину Шломо Минору (1828–1900). Под руководством Минора он изучал иврит, Талмуд и, по мнению авторов «Еврейской энциклопедии», «перечитав множество комментариев к Библии, осудил безусловно все ортодоксально-националистические утверждения и вступил на путь широкого универсализма »6 . Результаты его изысканий не заставили себя долго ждать.
В 1878 г. Толстой приступил к написанию своей «Исповеди». В 1881 г. он написал критику догматического богословия. Именно с этих антихристианских изысканий начинается история всемирной славы писателя Л.Н. Толстого, до этого известного только в России. По прошествии 15 лет со дня публикации «Войны и мира» (1865) Толстой оставался неведом Европе. С появлением в 1879 г., благодаря И.С. Тургеневу, французского перевода романа с большим трудом было продано всего несколько сот экземпляров. Но спустя 5–6 лет после появления антицерковных работ, Лев Толстой внезапно стал главным литератором в мире. К середине 80-х гг. большая часть его произведений уже была напечатана в Нью-Йорке и Лондоне, в Париже началась «Tolstoymanie», восторженные статьи о великом моралисте, «русском графе, который шьет сапоги», «великом русском революционере и нигилисте» заполнили модные журналы Запада.
Головокружительный успех вчерашнего неудачника с более чем скромным образованием объяснялся простыми причинами. Л.Н. Толстой как борец с христианством стал востребован международными деятелями, которые ставили задачу создания универсальной «истинной религии», призванной быть альтернативой христианству.
Все большее отторжение Толстым православного христианства привело к появлению у писателя интереса к еретическим, враждебным православию сектам и прямой и материальной поддержке антицерковных сил.
Весьма показательна чрезвычайно благожелательная позиция Л.Н. Толстого по отношению к молоканам, духоборам и штунди-стам. Для того чтобы материально помочь духоборам, которым царское правительство разрешило переселиться в Канаду, Толстой в 1899 г. поспешил закончить свой роман «Воскресение »7 и передал гонорар от него духоборам, так же как и средства, вырученные от издания «Отца Сергия».
Л.Н. Толстой неоднократно обращался в самые высокие инстанции с прошениями о предоставлении больших прав и свобод вышеперечисленным сектам.
Отношение Л.Н. Толстого к Русской Православной Церкви и светским властям исчерпывалось убеждением в том, что правительство «внушает русскому народу идолопоклонническую религию, называемую христианским православием, и, скрывая от народа истинное христианство, всячески развращает его… »8 .
Себя Толстой считал носителем идей «истинного христианства» и поддерживал те религиозно-политические и философские течения и организации, доктрины которых были близки его взглядам или совпадали с его мироощущением. При этом Толстой неиз- менно руководствовался в оценке этих течений и сект скорее своими собственными представлениями о них, чем доскональным изучением основ того или иного вероучения, произвольно выбирая одни, импонировавшие ему догматы, и пренебрегая другими. Позднейшее, более тщательное знакомство с предписаниями различных ересиархов порой приводило к охлаждению его горячей увлеченности, утрате интереса к этим вероучениям и перемене симпатий.
Характерным примером может служить история взаимоотношений Толстого с последователями бабизма-бахаизма. Это реформаторское вероучение возникло в Иране в недрах шиитского ислама в середине 40-х гг. XIX в. и оформилось в самостоятельную религиозно-политическую организацию на территории Османской Турции в 70-х гг. XIX в. Увлечению этой мусульманской ересью Л.Н. Толстой предавался более десяти лет (1899–1909).
Небольшая прослойка российской интеллигенции в конце XIX в. уже была увлечена идеями секты бабидов-бахаитов, когда с ними познакомился Л.Н. Толстой. По мнению А.И. Шифмана, Толстой заинтересовался бахаизмом в сентябре 1898 г., прочитав книгу Ф. Андреаса «Бабиды в Персии»11. После этого Л.Н. Толстой стал активно искать литературу, посвященную бабидам-бахаитам, и неодно- кратно пытался с ними связаться. В архиве Л.Н. Толстого в Ясной Поляне хранится немало книг по бахаизму на разных языках с пометками писателя. В период написания своих программных статей по религиозному вопросу в конце XIX – начале ХХ вв. Л.Н. Толстой уже был знаком с сочинениями Баха-Аллаха (1817–1892) и Абд ал-Баха (1841–1921), имел встречи с бахаитами, которых называл «бабистами», не отличая первоначальное учение Баба (1819–1850) и его учеников от последующей бахаитской доктрины. Любопытно, что благодаря Толстому с принципами бахаизма познакомились и высоко их оценили российские духоборы, в частности, глава «большей партии» духоборов и личный друг Л.Н. Толстого Петр Веригин12.
Несмотря на многократные попытки, предпринятые многочисленными духовными и светскими лицами, увещевать Л.Н. Толстого с тем, чтобы он хотя бы публично воздержался от глумления над духовными ценностями подавляющего большинства россиян, положение менялось только к худшему. Православная Россия чувствовала себя поруганной и оскорблённой литератором графом Л.Н. Толстым, опьяненным славой и безнаказанностью, и ждала адекватной реакции духовных и светских властей.
В 1901 г. Святейший Синод в своём Определении № 557 от 20–23 февраля отметил, что Толстой «проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской: отвергает личного Живого Бога, во Святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа-Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы Приснодевы Марии, не признаёт загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из Таинств — святую Евха- ристию». Тем самым Священный Синод признал, что своими многолетними проповедями Толстой «не прикровенно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с Церковью Православной», и что «Церковь не считает его свои членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею»13.
Письмо графини С.А. Толстой (1844–1919) к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию, ответ самого Толстого на постановление Святейшего Синода с дерзким признанием всех обвинений в свой адрес показали всю глубину духовно-нравственного падения писателя и полное отсутствие раскаяния с его стороны.
Вскоре после отлучения Л.Н. Толстой тяжело заболел и затем переехал на лечение в Крым. В местечке Гаспра, в нескольких километров от Ялты, Толстой и его домочадцы прожили около десяти месяцев: с сентября 1901 по июнь 1902 г. Мировоззрение Толстого, тем не менее, не изменилось. Он по-прежнему искал встреч с просвещенными последователями «истинной религии» Востока и Запада, потенциальными неофитами универсальной всемирной идеологии, готовыми признать его своим духовным вождем. Плодотворным на контакты с ними для Толстого оказался 1902 г.
В один из дней 25–27 мая 1902 г. Толстой, несмотря на едва начавшийся процесс выздоровления, встретился с неизвестным членом бахаитской общины и оставил в дневнике следующую запись: «...Был Персиянин разнощик, вполне просвещенный человек, говорит, что он бабист »14 .
Более интересной и содержательной была встреча Толстого с Азиз-Аллахом Джаззабом в сентябре 1902 г. в Ясной Поляне, о которой нет упоминания в опубликованных дневниках писателя.
Ага Азиз-Аллах Джаззаб (1841–1935), торговец из Мешхеда, перешел из иудаизма в бахаизм в 1875 г. и вскоре стал влиятельной и заметной фигурой в общине. Имея бухарский паспорт, равнозначный российскому, он занимался активной торговлей от берегов Восточно- го Средиземноморья до закаспийских владений и среднеазиатских ханств. Он трижды встречался с Баха-Аллахом в Акке и охотно выполнял деликатные поручения основателя организации бахаитов, требующие особой осторожности и секретности. Так, в августе 1891 г. по заданию Баха-Аллаха ему удалось выполнить важное поручение в Стамбуле, откуда он отправился в Париж, а затем в Лондон, выполняя волю вождя бахаитов по ознакомлению барона Натаниэля Майера, лорда Ротшильда Лондонского (1840–1915) и барона Эдмонда де Ротшильда Парижского (1845–1934) с бахаитским «Откровением»15.
По распоряжению нового главы бахаитской общины Абд ал-Баха (Аббаса-эфенди), преемника Баха-Аллаха, Азиз-Аллах в сентябре 1902 г. отправился из Акки в Россию для установления постоян -ных контактов с Л.Н. Толстым и передачи ему писаний Абд ал-Баха.
Азиз-Аллах, оставленный отдохнуть с дороги до обеда, попросил Черткова принести почитать последнюю книгу Л.Н. Толстого, «против которой ополчилось все христианское духовенство России, что и привело к теперешним ограничениям»20. Чертков принес экземпляр книги, которую Азиз-Аллах читал с девяти утра до полудня. Несмотря на плохое знание русского языка, Азиз-Аллах в своих записях считает, что ему удалось понять основную мысль Толстого, которая, по мнению бахаита, сводилась к следующему высказыванию: «Какой вред в том, что мы, подобно Моисееву народу и людям ислама, признаем, что Христос, как и другие пророки, был избран и послан Богом, и к тому же воздержимся от внедрения истории про голубя и других фантазий в умы простых людей, делая тем самым себя посмешищем для других»21.
Согласно запискам Азиз-Аллаха, он встретился с Л.Н. Толстым за обедом в час дня 17 сентября. За обедом Азиз-Аллах сидел с Чертковым. Когда выяснилось, что гость, как и Толстой, не ест мясную пищу, то, по распоряжению хозяина, ему принесли такое же блюдо из куриных яиц, как у Толстого. После обеда, собственно, и начался разговор между ними. Толстой сказал, что не доверяет газетам, одни из которых хвалят бабидов и бахаитов, а другие — ругают, что трижды пытался найти сведения об этом движении для написания о нем в своих книгах и что последний раз обсуждал эту тему с Чертковым двенадцать дней назад. Азиз-Аллах отвечал, что он сам трижды выполнял поручения по передаче посланий из Акки разным лицам в России. Первый раз ему не удалось встретиться с военным министром Кропоткины м22 и Толстым, второй раз он вручил письмо «генералу Камарову »23 , и, наконец, в третий раз он привез письмо Толстому от Абд ал-Баха, с которым расстался ровно двенадцать дней назад.
В дальнейшем беседа была построена из вопросов Л.Н. Толстого и ответов Азиз-Аллаха. Толстого интересовало, кто такой
Баб, когда он появился, в чем состояли его претензии; каково положение в общине после смерти Баха-Аллаха, какую роль взял на себя Абд ал-Баха и т. п.
В соответствии с бахаитской версией истории движения Азиз-Аллах сообщил, что Баб был молодым человеком по имени сайид Али-Мухаммад, что движение после смерти Баха-Аллаха продолжает развиваться. Относительно самого Баха-Аллаха гость заявил, что он был «Глаголющим с Синая», «Предвечным Отцом». «Духом Истины», «Отцом Небесным», которого ждут сыны Израиля и христиане, «Пришествием Хусайна» по представлениям шиитов, «Вторым Пришествием Христа» по представлениям суннитов, «Пришествием Шаха Бахрама» по представлениям зороастрийцев и исполнением пророчеств Исайи и Даниила. Азиз-Аллах рассказал Толстому о том, что Баха-Аллах пришел, чтобы спасти все народы мира от ложных представлений; познакомил его с принципами и положениями законодательной власти, предоставленной Вселенскому Дому Справедливости бахаитов, и изложенным в «Кетаб-е Акдас» — «Священнейшей книге» Баха-Аллаха.
Азиз-Аллах изложил Толстому некоторые основные догматы бахаизма, такие, как равенство мужчины и женщины, отказ от всех предубеждений, единство религии и т.д. На вопрос Толстого о том, обращаются ли в бахаизм люди других вероисповеданий в значительном количестве, гость дал удовлетворительный ответ, приведя в пример себя самого и свой переход в бахаизм из иудаизма. Азиз-Аллах рассказал Толстому и о борьбе в общине после смерти Баха-Аллаха между Абд ал-Баха и его единокровными братьями. На последнее высказывание Толстой заметил, что подобное происходит и в его семье и что его собственный сын в Санкт-Петербурге при дворе денно и нощно хлопочет о его смерти.
После продолжительной беседы Азиз-Аллах передал Л.Н. Толстому послание от Абд ал-Баха, в котором последний желал Толстому оставить в анналах религии неизгладимый след в качестве объединителя религий, более величественный, чем тот, который может оставить философ. В конце встречи Азиз-Аллах осведомился у графа относительно его мнения о Баха-Аллахе, на что Тол- стой, по словам бахаита, поднял обе руки и сказал: «Как я могу отвергнуть того, кто взывает ко всему человечеству? Я попытался просветить небольшое число людей в России, и вы видите, как мне мешает жандармерия»24.
На прощание Толстой подарил Азиз-Аллаху множество своих книг и фотографий и пообещал написать о бахаизме. Остаток дня Азиз-Аллах провел, общаясь с дочерью Толстого, его секретарем (накануне освобожденным из-под ареста в Туле), личным врачом и Чертковым. К вечеру он распрощался со всеми и покинул Ясную Полян у25 .
После этой встречи Л.Н. Толстой надолго заинтересовался бахаизмом и приветствовал любые хвалебные отзывы и публикации, посвященные этому учению.
Понять духовные искания Толстого можно лишь с учетом влияния на его мировоззрение средневековых иудейских рационалистических представлений ,26 нашедших отражение в учении ряда еретических мусульманских сект. Толстого привлекала попытка создать рационалистическое «Откровение», согласовать веру и разум при подчиненности веры доводам разума. Мессианские мотивы мало волновали Толстого, его воображение занимала мысль о вселенской идеологии, которую он называл «истинной религией», включавшей в себя жестко регламентированные правила для каждого индивида и социума, духовные и земные бытия, строго обязатель -ные для всех.
Иранскому послу в России мирзе Реза-хану, делегату Гаагской конференции 1899 г., пославшему писателю перевод своей оды «Мир», Толстой пишет, что «причина зла ‹…› в незнании истинной религии», под которой «я разумею религию, доступную всем людям, основанную на разуме, общем всем народам, и поэтому обязательную для всех»27.
Носителями «истинной религии» в мусульманском мире начала века Л.Н. Толстой считал членов секты ахмадийа (Индия) 28 , ти-джанийа (Северная Африка )29 , ваисовцев (Татария) 30 и бабидов-ба-хаитов (Иран, Турция, Россия). Наибольшим расположением Л.Н. Толстого пользовались бабиды-бахаиты, в практической деятельности которых он увидел столь привлекавшую его антигосударственную и антиправительственную направленность, что вполне явствует из следующих его высказываний:
«Я считаю, что государство, основанное и постоянно поддерживаемое насилием, не только исключает братство, но и представляет совершенную противоположность ему».
«Я верю, что везде, как и у вас в Персии, бабиды есть люди, исповедующие истинную религию, и, несмотря на все преследования, которым подвергаются эти люди везде и всегда, их идеи будут распространяться все больше и больше, и, наконец, восторжествуют над варварством и жестокостью правительств и в особенности над теми обманами, в которых правительства стараются держать свои народы »31 .
Серьезным препятствием на пути установления «истинной религии» в мировом масштабе Толстой считал патриотизм, служащий опорой всякой национальной государственности, против которого он обрушился всей мощью своего писательского таланта:
«Казалось бы, и зловредность, и неразумие патриотизма должны бы быть очевидны людям...
Казалось бы очевидно, что патриотизм, как чувство, есть чувство дурное и вредное; как учение же — учение глупое...
Патриотизм не может быть хороший »32 .
Отказ от национальных интересов и патриотизма как один из основных догматов бахаизма в соответствии с изречением Баха-Аллаха «нет славы тому, кто любит отечество, но тому, кто любит весь мир »33 чрезвычайно привлек Л.Н. Толстого как самый верный путь, направленный на изменение мировоззрения людей и ведущий к созданию «нового мышления», «нового человека» грядущей эпохи «новых общественных отношений», о которых постоянно писала большая часть российской прессы накануне событий 1905– 1907 гг.
Если в 1901 г. в письме Габриелю Саси, столоначальнику личного состава Министерства финансов в Каире, Толстой, признав «библию бабизма» «малоценной», превозносил деструктивный элемент в движении (очевидно, из-за бабидских восстаний в Иране в 1848–1852 гг.) и писал, что «имея много общего с христианским анархизмом, он [бабизм. — И. Б. ] должен рано или поздно с ним слиться »34 , то в дальнейшем, по мере ознакомления с собственно ба-хаитской доктриной, выделял и другие привлекательные для него принципы, направленные на разрушение традиционных обществ на Востоке и на Западе.
Общепризнанной выразительницей взглядов части российской интеллигенции, привлеченной бахаитскими концепциями на рубеже XIX–XX вв., помимо Л.Н. Толстого, стала Изабелла Аркадьевна Гриневская (род. 1850 г.), поэтесса, беллетристка, драматическая писательница, автор драматической поэмы «Баб» (1903 г.) и поэмы-трагедии «Беха-Улла» (1912 г.), ряда панегирических статей, посвященных Л.Н. Толстому, таких, как «Гимн Льву Толстому», «Кантата Великому Льву» (1908 г.) и др. Узнав от близкого Толстому В.В.
Стасова (1824–1906 гг.) о лестном отзыве Толстого на присланную ему поэму «Баб», Гриневская в письме от 7 октября 1903 г. передала просьбу бахаитов высказать мнение о них. В ответном письме от 22 октября 1903 г. Толстой пишет: «О бабистах я знаю давно и давно интересуюсь их учением. Мне кажется, что это учение, так же как и все рационалистические общественные, религиозные учения, возникающие в последнее время из изуродованных жрецами первобытных учений: браминизма, буддизма, иудаизма, христианства, магометанства, имеют великую будущность именно п[отому], что все эти учения, откинув все те уродливые наслоения, к[оторые] разделяют их, стремятся к тому, чтобы слиться в одну общую религию всего человечества. Поэтому и учение бабидов, в той мере в к[ото-рой] оно откинуло старые магометанские суеверия и не установило отделяющих его от других новых суеверий (к несчастию, нечто подобное заметно в изложении учения Баба), и держится своих главных основных (идей) братства, равенства и любви, — имеет великую будущность »35 . Упомянув в качестве примеров привлекательного «духовного брожения» в мусульманском мире секты тиджа-нийа и ахмадийа, Толстой объяснил свое предпочтение бабизму-ба-хаизму следующим образом: «Оба эти религиозных учения не содержат ничего нового и вместе с тем не полагают своей главной цели в изменении мировоззрения людей и потому отношений людей между собой, — того, что я вижу в бабизме, не столько в его теории (в учении Баба), сколько в практике людей, насколько я знаю ее. И потому всей душою сочувствую бабизму... »36
В то же время попытки бахаитов приспособиться после поражения бабидских восстаний к ряду государственных институтов в странах Востока и Запада, в том числе и в России, куда бежали сек -танты, спасаясь от преследований иранских властей, вызвали недовольство Толстого. Очевидно, он был раздосадован среди прочего и предписанием Баха-Аллаха о лояльном отношении к правительствам всех стран, где нашли убежище его сторонники; введением новой бахаитской обрядности вместо мусульманской и пр.
Толстого разочаровала «Кетаб-е Акдас» («Священнейшая книга») Баха-Аллаха, присланная французским бахаитом адвокатом И. Дрейфусом, о чем писатель сообщил в ответном письме в апреле 1904 год а39 . После прочтения сочинений Абд ал-Баха, присланных из США писателем Э. Кросби (1856–1907 гг.), Толстой в письме от 31 июля 1904 г. написал: «Думаю, что секта эта не имеет будущности »40 .
В 1906 г. Абд ал-Баха через первую бахаитку Британских островов М. Торнбург-Кроппер переслал несколько своих сочинений, официальных бахаитских документов и знаменитое послание Баха-Аллаха «Простейшие по существу» в Ясную Поляну. Толстой, привыкший в России к полной свободе высказывать свои масонские и нигилистические взгляды, подверг критике это сочинение Баха-Аллаха «за то, что основные нравственные истины затемнены в нем элементами мистики »41 .
Тем не менее, в противопоставлении бабизма-бахаизма традиционным мировым религиям Л. Н. Толстой неизменно отдавал предпочтение учению Баба, Баха-Аллаха и Абд ал-Баха.
Так в письме от 28 декабря 1908 г. Феридун-хану Бадалбегову он пишет:
«Учение бабистов, перешедшее в багаизм (Бага-Улла), возникшее из магометанства, представляет из себя одно из самых высоких и чистых религиозных учений »42 .
В марте 1909 г. на вопрос Е.Е. Векиловой о том, что надо ли ее сыновьям, принявшим православие, вернуться в ислам, чтобы помочь «темному татарскому народу», войти в среду которого «мешала религия», Толстой ответил утвердительно, считая «церковное православие» ниже ислама. Однако предложил перейти не в ортодоксальный суннизм, а в бахаизм или принять еретическое учение ваисовцев. О первом Толстой пишет следующее: «Одно из этих учений — это учение бабистов, зародившееся в Персии, перешедшее в Турцию, где тоже терпело гонения и теперь сосредоточилось на сыне Бага-Уллы, живущем в Акре. Учение это не признает никаких внешних форм богопочитания, считает всех людей братьями и признает только одну религию любви, общую всему человечеству »43 .
Депутату французского парламента Ф. Гренье, который перешел в ислам и писал, что «работает над объединением людей в одной религии», Л.Н. Толстой отвечал: «Способствовать уничтоже нию этих отдельн ых религий и основанию одной всемирной религии
— одно из лучших призваний человека в наше время» и приводил в качестве примера бахаитов и ваисовцев, основной догмат которых «единство религий »44 .
Высказывания Л.Н. Толстого о бахаизме и бабизме представляют интерес главным образом постольку, поскольку отражают представления самого писателя об этом учении и о тех особенностях бахаитской доктрины, которые он приветствовал.
В 1909 г. Толстой вступил в переписку с инженером-бахаитом из Баку мирзой Алекпером Мамедхановы м45, через которого впоследствии получал бахаитскую литературу и заочно общался с Абд ал-Баха. В письме от 22 сентября 1909 г. Толстой пишет: «Получил ваше письмо и одновременно с этим книгу Абдул-Беха Аббас Эфенди «Воззвание к бахаистам востока и запада». ‹…› То же, что высказал в своей проповеди в Акке уважаемый мною Абдул-Беха о том, что я отдал свою землю крестьянам, к сожалению несправедливо, так как имея сыновей-наследников, рассчитывавших на получение после моей смерти наследства моего имущества, я, не считая себя вправе это сделать, в 81-м году предоставил моим наследникам распорядиться с моим имуществом т[ак], к[ак] будто я умер, и этим способом тогда же освободился от владения всякой собственности. ‹…› Очень рад общению с вами, так как я в последнее время занят изданием книги о Бабе и бехаизме ”46 .
Л.Н. Толстой действительно собирался включить такую книгу в серию «Общедоступное изложение жизни и учений мудрецов». В «Круге чтения» (1906 г.) Толстой поместил ряд изречений из бабид-ско-бахаитского наследия. С.А. Толстая по его поручению перевела несколько глав из неизвестной английской книги о бабизме-бахаиз-ме, которые вместе со сведениями, взятыми из книги И. Дрейфуса47, должны были «лечь в основу популярной русской книги о бабизме»48. Книга так и не была составлена, поскольку Толстой несколько охладел к бахаизму, получив от Мамедханова письмо от 10 октября 1909 г. и изучив переводы материалов о Бабе и Баха-Ал-лахе, письмо Абд ал-Баха к одной американской бахаитке, сочинения о бабизме Г. Атрпета и послание Баха-Аллаха «Восходы».
Последним положительным отзывом о бахаизме можно считать помещенный в письме Ф.А. Желтову от 12 октября 1909 г., в котором Толстой говорит, что «...обще всем религиям извращение и затемнение их непонимающими их истинного значения последователями и вытекающими из этих извращений восстановление их в истинном их смысле. Таков в магометанстве суфизм и др[угие] учения и особенно чистое и высокое учение ученика Баба — Беха-Уллы »49 .
В то же время самим бахаитам Л.Н. Толстой писал совсем другое. В письме Мамедханову от 28 ноября 1909 г. он заявлял: «очень сожалею, что не могу признать значительными присланные вами мысли. Все это совершенно бессодержательно. Вообще чем я больше знакомлюсь с бехаитским учением, тем менее ценю его, и потому едва ли составлю о нем книгу»50. Такова была реакция Толстого на присланное сочинение Баха-Аллаха «Отблески», о котором Толстой в кругу близких сказал: «Это восточная риторика без со-держания»51. Привыкший к большей конкретике в изложении своих взглядов в России, Л.Н. Толстой, не найдя принципиальных расхождений между своими рассуждениями и идеологией Баха-Аллаха52, болезненно воспринял витиеватый и кодированный стиль присланных сочинений, оставлявший много безответных вопросов у непосвященных в хитросплетения восточной теософии и суфийской философии. Толстой посчитал, что Баха-Аллах и Абд ал-Баха облекают учение в старые отжившие религиозные формы, неясно и туманно излагают тезисы о непостижимости Истины и Бога, что, по мнению Толстого, «значит не уяснять, а только еще более запутывать то, что нужно знать всем людям — старым и молодым, грамотным и безграмотным, и знание чего дороже всего на свете»53.
В 1910 г. Л.Н. Толстой получил новые материалы о бабизме-бахаизме от Мамедханова, от рештского бахаита П. Полизоиди, по рекомендации которого с Толстым вступил в переписку бывший личный переводчик Абд ал-Баха доктор Ионесс Кан, приславший писателю сочинение Фелпса Майрона об Абд ал-Баха 54 . Однако в последний год жизни Л. Н. Толстого занимали иные проблемы. К мысли о написании книги о бабидах и бахаитах он не возвращался
Великого писателя и великого гордеца сковал страх приближавшейся смерти, от которой он хотел убежать подобно тому, как подросток, боящийся родительского наказания, сбегает из дома. Отсутствие искреннего раскаяния, невозможность вернуться к спасительной вере предков и восстановить отношения с Православной Церковью, томительный страх неминуемой расплаты за содеянное привели в конечном итоге Л.Н. Толстого на станцию Астапово. Обстоятельства тяжёлой нехристианской кончины Л.Н. Толстого хорошо известны, подробно описаны в мемуарах современников и в многочисленных исследованиях.
Православные и католические иерархи посчитали невозможным служить панихиды по Л.Н. Толстому. Оптинский старец о. Варсоно-фий, приехавший к умиравшему писателю вместо немощного о. Иосифа, за которым посылал Л.Н. Толстой, свидетельствовал: «Ездил я в
Астапово, не допустили к Толстому. Молил врачей, родных, ничего не помогло. ‹…› Железное кольцо сковало покойного Толстого, хотя и Лев был, но ни разорвать кольца, ни выйти из него не мог… »55
Список литературы О влиянии идей бахаизма на мировоззрение Л.Н. Толстого (1828–1910)
- Духовная трагедия Льва Толстого/Сост. А.Н. Стрижев. М., 1995.
- Еврейская энциклопедия. Т. XIV. СПб., б./г.
- Ивановский Н. Граф Лев Николаевич Толстой и его учение. СПб., 1903.
- Кузнецова Н.А. К истории изучения бабизма и бахаизма в России//Очерки по истории русского востоковедения. Сб. 6. М., 1963.
- Медведев И.В. Талмуд как источник «Круга чтения»//Толстой Л.Н. Круг чтения. Т. 2. М., 1991.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1928-1958. Т. 74.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1928-1958. Т. 54.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1928-1958. Т. 73.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1928-1958. Т. 75.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1928-1958. Т. 78.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1928-1958. Т. 79.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1928-1958. Т. 79.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1928-1958. Т. 80.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1928-1958. Т. 90.
- Туманский А.Г. Китабе Акдес «Священнейшая книга» современных бабидов. СПб., 1899.
- Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. М., 1960.
- Balyuizi H.M. Eminent Baha’is in the Time of Baha’u’llah. Oxford, 1985.
- Dreyfus H. Essai sur le Behaisme, son histoire, sa portée sociale. Paris, 1909.
- Ghadirian A.M. Doukhobors and the Baha’i Faith. Thornhill, 1989.
- Phelps M.H. Life and teaching of Abbas Effеndi. A study of the religion of the Babis or Bahais. N.Y., L., 1903.
- Taherzadeh A. The Revelation of Baha’u’llah. T. 3. Oxford, 1984.