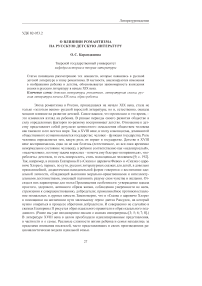О влиянии романтизма на русскую детскую литературу
Автор: Карандашова Ольга Святославовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению тех новшеств, которые появились в русской детской литературе в эпоху романтизма. В частности, анализируются изменения в изображении ребенка и детства, обосновывается закономерность вхождения сказки в русскую литературу в начале XIX века.
Детская литература, романтизм, литературная сказка, русская литература начала xix века, образ ребенка
Короткий адрес: https://sciup.org/146281499
IDR: 146281499 | УДК: 82-053.2
Текст научной статьи О влиянии романтизма на русскую детскую литературу
Эпоха романтизма в России, пришедшаяся на начало XIX века, стала не только «золотым веком» русской взрослой литературы, но и, естественно, оказала мощное влияние на развитие детской. Самое важное, что произошло в это время, – это изменился взгляд на ребенка. В разные периоды своего развития общество в силу определенных факторов по-разному воспринимает детство. Отношение к детству представляет собой результат ценностного осмысления обществом человека как такового и его места в мире. Так, в XVIII веке, в эпоху классицизма, доминантой общественного сознания является государство; человек – функция государства. Роль человека определяется тем, какую роль он играет в государстве. Детство в XVIII веке воспринималось едва ли не как болезнь (естественное, но все-таки временно ненормальное состояние человека), а ребенок соответственно как «недовзрослый», «недочеловек», поэтому задача взрослых – помочь ему быстрее «поправиться», «переболеть» детством, то есть повзрослеть, стать полноценным человеком [9, с. 192]. Так, например, в сказках Екатерины II («Сказка о царевиче Февее» и «Сказка о царевиче Хлоре»), первых, по сути, русских литературных сказках для детей, в довольно прямолинейной, дидактически-назидательной форме говорится о воспитании идеальной личности, обладающей высокими морально-нравственными и интеллектуальными достоинствами, умеющей подчинить разуму свои чувства и желания. Отсюда в них характерные для эпохи Просвещения особенности: утверждение идеала простого, здорового, активного образа жизни, соблюдения умеренности во всем, стремления к совершенствованию, добродетели; прямолинейное противопоставление похвальных и дурных качеств. Закономерно, что в «Сказке о царевиче Хлоре» в помощники на жизненном пути маленькому герою дается Рассудок, на который нужно опираться в процессе обретения добродетели. И совершенно не случайно в сказках Екатерины II рисуется образ идеального правителя и образ идеального подданного. (Ранее мы уже неоднократно писали о сказках императрицы [3; 5; 6; 7; 8].) В литературе XVIII века в целом преобладали идеализированные представления, в частности и о семье. Реальные сложности жизни ребенка и семьи находились за пределами внимания писателей, часто представлявших в своих произведениях рационалистические модели идеальной семьи.
В начале XIX века маятник общественного сознания качнулся в другую, прямо противоположную сторону. Конечно, некоторые произведения этого времени сохраняют еще отголоски предыдущей эпохи. Особенно это характерно для усадебной дворянской литературы, которая, казалось бы, очень внимательно относилась к детству, однако здесь ребенок по прежнему поставлен в несвойственные детству ситуации, его общение с взрослыми строго регламентировано, он не свободен в своих поступках. Нахождение на периферии литературного процесса, удаленно от культурных центров, приводит в данном случае к тому, что усадебная литература первой половины XIX века демонстрирует устаревшее представление о ребенке и детстве, не являющееся показательным для передовой литературы того времени. В первой трети XIX века в русской культуре под влиянием романтизма ребенок стал восприниматься как идеал человека. Произошло это, на наш взгляд, потому, что в романтизме в целом главное – это человек, его внутренняя субъективная сущность, его индивидуальность и оригинальность. В романтическом мировосприятии человек – целая вселенная, уникальная и неповторимая, поэтому в романтическом искусстве приоритет отдается «внутреннему человеку», создается культ чувств, а в романтической литературе часто изображается «странный», непохожий на всех остальных людей герой (безумец, богоборец, мятежник, разбойник, художник, представитель иной народности и т. п., но обязательно не такой, как другие, так или иначе «странный»). Отсюда самый распространенный конфликт романтического произведения – «герой и толпа». Другие черты романтического произведения вытекают из этого центрального для романтизма посыла. В детской литературе это привело к изменению взгляда на ребенка и детство. Ребенок, как было сказано выше, начинает изображаться как идеал человека, а взрослый – как испорченный ребенок, многое потерявший в духовно-ценностном смысле и извративший свою детскую сущность, утративший детскость. А детскость становится одним из критериев человека, сохранение детскости – одним из требований, предъявляемых романтиками к взрослому. Под детскостью имеется в виду прежде всего чистота души, несколько наивное, интуитивное, но незамутненное, неразвращенное, неиспорченное восприятие мира; от взрослого человека требуется сохранять взгляд «первооткрытия», чтобы мочь видеть красоту жизни. В этой связи совершенно не случайно знаменитое описание украинской ночи Н. В. Гоголя в «Сорочинской ярмарке» открывается вопросами: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее» [2, с. 87]. Задавая вначале риторические вопросы, затем бросая риторическое восклицание и переходя к описанию, автор как бы призывает читателя посмотреть на привычные, обыденные вещи новым взглядом, открыть красоту мира заново, как свойственно детям.
Детство при этом начинает восприниматься как отдельный, самодостаточный и самоценный период жизни, зачастую как идеальная, «золотая» пора жизни человека. Поэтому большинство писателей того времени начинают писать для детей, появляется само понятие «детский писатель». От назидательности и дидактизма предыдущего периода детская литература начала XIX века переходит к психологически тонкому осмыслению мира детства с его особым строем, психологией, ценностями, особым мироощущением. «Писатели-романтики первые ввели в русскую литературу психологически очерченный образ ребенка, они угадали в мире детства целый поэтический мир» [1, с. 109].
Другой принципиально важный момент, связанный с влиянием романтизма на русскую детскую литературу, заключается, на наш взгляд, в следующем. С философско-эстетических позиций романтизма, так же как каждый человек уникален и неповторим, так же уникален и неповторим каждый народ, нация. Поэтому в эпоху романтизма рождается небывалый до того подъем народного самосознания, интерес к национальной культуре, истории, традициям, фольклору. (Этому способствовал, безусловно, и ряд конкретных исторических событий, как, например, Отечественная война 1812 г., но только внешним воздействием на литературу вряд ли можно ограничиваться. К числу внутренних причин, литературных закономерностей развития, по нашему убеждению, относится именно влияние романтического мироощущения писателей начала XIX века.) При этом национальное у романтиков ценно как неповторимое, уникальное и в то же время закономерное в общем развитии, как неотъемлемая часть общемирового целого. В частности, Ф. Шлегель призывал рассматривать нации с их особенностями как «удивительные фрагменты» общечеловеческого [11, с. 11]. Та же мысль характерна, например, и для Н. В. Гоголя [4, с. 315–318]. Романтики ощущали свою жизнь звеном длительного исторического процесса, частью народного целого. Влияние романтического интереса к национальному на детскую литературу проявилось прежде всего в том, что в нее вошел фольклор. До этого, как известно, устное народное творчество воспринималось дворянским образованным обществом как низкое искусство. Фольклор теперь объявляется проявлением народного гения, «духа нации», в котором открывается общечеловеческий или Божественный дух. Поэтому на рубеже веков начинают издаваться для детского чтения сборники фольклорных песенок и сказок, а в первой трети XIX века появляются и приобретают массовый характер переработки фольклорных произведений, а также попытки создать авторские произведения в «народном духе». Писатель-романтик, сочинявший сказки, пытался стать тем самым наравне с этим духом, надеясь возвыситься до народного гения благодаря гению индивидуальному. Народность объявляется едва ли не важнейшим критерием оценки художественного произведения, непременным требованием, к нему предъявляемым. Не случайно и жанр сказки в это время становится таким популярным, происходит освоение русской литературой сказочного жанра [10]. В других национальных литературах эпохи романтизма доминировали разные жанры – у каждой национальной романтической разновидности свое, своеобразное жанровое лицо. Для русского романтизма наиболее приемлемым оказался жанр сказки. На первом этапе развития романтизма литературная сказка обретает свои основные черты; сказочная фантастика становится средством философского постижения жизни, а сама сказка – своеобразным языком романтизма. В ходе развития романтизма литературная сказка, сохраняя приверженность народной традиции, постепенно превращается в крупное синтетическое произведение с большим количеством героев, со сложной внутренней структурой. Со временем начинается процесс более глубокого и пристального изучения действительности, ее социальных противоречий. По мере своего развития романтическое сознание стало постепенно настраиваться на волну жизни действительной, которая выдвигает свои проблемы. И все же романтики продолжают утверждать, что мир слишком сложен и противоречив, чтобы его можно было постичь. В литературе это выражается с помощью фантастических образов, нереальных ситуаций, гротескных форм. Писатели-романтики пытаются не столько отразить действительность, сколько выразить ее возможности, передать свое ощущение от ее разнообразия и непостижимости, для чего очень активно используется сказочный жанр.
Таким образом, романтизм проявил интерес ко всему национально-историческому, что спровоцировало собирание и освоение фольклора, а для русского романтизма наиболее актуальным стал жанр сказки, что и привело к небывалому дотоле расцвету литературной сказки как в детской, так и во взрослой литературе.
С течением времени сказка прочно закрепилась в детской литературе, и большая часть произведений, изначально не предназначавшихся для этого, перешли в круг детского чтения. По верному замечанию И. П. Арзамасцевой, «воздействие народной сказки на сказку литературную было сильно как никогда прежде, но при этом писатели-сказочники уходили от простого подражания народной фантазии, желая создавать творения, не уступающие в совершенстве фольклору» [1, с. 110]. Через сказку предпринимается, с одной стороны, попытка популяризовать фольклор, а с другой стороны, народная сказка в это время была призвана посредством введения новых тем, сюжетов, образов обогатить литературу, внести в нее элемент новизны. Благодаря этому в итоге русская литература пополнилась сказками А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, А. Погорельского, В. Ф. Одоевского, П. П. Ершова, а сказочный жанр является до сих пор ведущим в детской литературе.
Список литературы О влиянии романтизма на русскую детскую литературу
- Арзамасцева И. Н. Детская литература: Учебник. М.: Академия, 2005. 576 с.
- Гоголь Н. В. Собрание художественных произведений: в 5 т. Т. 1. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. 374 с.
- Карандашова О. С. Взгляды Екатерины II на воспитание в сказках для детей // Детская литература и воспитание / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2004. С. 113-118.
- Карандашова О. С. Взгляды Н. В. Гоголя на историю // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 315-318.
- Карандашова О. С. Идеи Просвещения в сказках Екатерины II для детей («Сказка о царевиче Хлоре», «Сказка о царевиче Февее») // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2005. № 7 (13). С. 4-11.
- Карандашова О. С. Истоки русской литературной сказки // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2019. № 1 (60). С. 17-21.
- Карандашова О. С. Традиции и новаторство сказок Екатерины II для детей // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 13. СПб.; Самара: НТЦ, 2007. С. 172-181.
- Карандашова О. С. Фольклорные традиции и черты литературности в сказках Екатерины II для детей // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 4. С. 116-124.
- Карандашова О. С., Строганов М. В. Семья и детство как предмет художественного изучения в русской литературе. Опыт авторефлексии // Семья в современном мире: социокультурные аспекты Тверской гос. ун-т. Тверь, 2009. С. 187-197.
- Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века / Петрозавод. гос. ун-т. Петрозаводск, 1959. 502 с.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1983. 447 с.