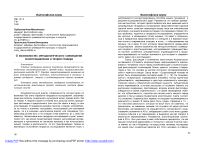О возможностях методологического совмещения экзистенциализма и теории гендера
Автор: Горбунова Инна Михайловна, Прокопьева Полина Викторовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3-4, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу диапазона приемлемости методологии экзистенциализма и, прежде всего, прогрессивно-регрессивного метода Ж.П. Сартра, акцентировавшего внимание на роли индивидуального, частного, отличительного в истории, в рамках гендерной теории и плодотворности такого применения.
Методология, гендерные исследования, экзистенциализм, экзистенция, проект, локальное, частное, феминизация опыта
Короткий адрес: https://sciup.org/14932801
IDR: 14932801 | УДК: 101.8
Текст научной статьи О возможностях методологического совмещения экзистенциализма и теории гендера
Фундаментальный анализ современности сегодня вряд ли возможен без учета наработок гендерных исследований, затрагивающих все аспекты социальной и культурной жизни, прежде всего, без их теорий. А теория в какой-то степени есть попытка понять преходящее настоящее и предположить (или хотя бы иметь в виду) то или иное будущее. В гендерном дискурсе понятие «теория» употребляется не только в значении «инструмент, используемый для понимания мира», но и в значении «критический анализ, или понимание того, каким мир должен быть и что следует в нем изменить» [5, с. 269]. Как известно, лейтмотивом всех гендерных исследований служит осмысление того, как возник существующий порядок, допускающий дискриминацию и притеснение по половому признаку и как использовать знание, теорию в деятельности по его трансформации. Одним из важнейших положений гендерных исследований является тезис о
Философские науки необходимости реструктурирования способов нашего понимания и решения исследовательских задач. Разумеется, это требует адекватной методологии, которая препятствовала все еще имеющей место дискредитации гендерных исследований представителями мировой научной элиты, зачастую трактующих гендер лишь как описательную категорию, а не аналитический инструмент исследования. Кроме того, все проблемы, поднятые в гендерных исследованиях, определяются как частные и касающиеся только женщин, что ведет к ограниченным и превратным представлениям и о женщине и о взаимоотношении полов в современном социуме; в итоге – к обесцениванию как женщин, так и мира. В этих условиях представляется чрезвычайно плодотворным анализ возможностей методологического совмещения гендера и экзистенциализма, исследовавшего преимущественно частное, особенное, специфическое, индивидуальное и продемонстрировавшего их особую значимость для истории и современности, равно как и для будущего.
Сартр, рассуждая о понимании экзистенции Кьеркегором, пытавшимся отстаивать непреодолимую непроницаемость переживаемого человеком опыта перед всеобъемлющей и всепоглощающей философской тотализацией Гегеля, кажется, согласен с Кьеркегором в том, что человек не должен постоянно экстериоризировать себя и теряться в вещах. Сартр пишет: «Существующий человек не может быть ассимилирован системой идей» [1, с. 16]. Он солидаризуется с Кьеркегором, стремившимся отвоевать чистую единичную субъективность, непримиримую и яростную непокорность непосредственной жизни у объективной всеобщей сущности. Субъективная жизнь переживается, а потому ускользает от познания. Именно это внутреннее содержание, притязающее, вопреки всякой философии, утвердиться в своей ограниченности и в своей неизмеримой глубине, эта субъективность, открытая как личная участь каждого перед другими и была названа Кьеркегором экзистенцией. Сартр считает, что, возможно, Кьеркегор был первым, кто выразил несоизмеримость реальности и знания. В самом деле, боль, нужда, страдание и т.п. – это жестокие реальности, которые не могут быть ни охвачены, ни преодолены, ни изменены знанием. Не случайно об идеях датского философа, настаивавшего на специфичности человеческого существования, вспомнили в XX в., вобравшем в себя столь много драматических событий и их переживаний, а Кьеркегор как раз говорил о реальности переживаемого. Разумеется, экзистенциализм, возникший в XX в., был уже иным и имел собственные приоритеты, так как прошел испытание марксизмом и столкнулся с массой пластов нового знания, но, как и Кьеркегор, он всюду искал человека, исследовал его живой опыт, конкретный характер вот этого человека, а главное,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки
его обусловленность будущим или проект.
Сартр считает, что существование любого человека детерминируется не только факторами, определяющими его отношение к данной в настоящий момент реальности, но и отношением к тому будущему объекту, который человек стремится вызвать к жизни. Это, по мнению Сартра, и надо считать проектом. Иначе говоря, проект – это то, чего еще не было. «Будучи одновременно и бегством и броском вперед, отказом и осуществлением, проект удерживает в себе и разоблачает преодолеваемую, отвергаемую реальность, в том самом движении, которым она преодолевается» [1,с. 88]. Будущее, таким образом, определяет индивидуума в его наличной реальности, но оно как некая возможность для человека определяется двояким образом: либо как то, чего недостает и тогда оно разоблачает действительность самим своим отсутствием, либо как то, что выступает как реальное и перманентное будущее, постоянно поддерживаемое и преобразуемое. Общество в таком случае являет себя каждому человеку как перспектива будущего и, считает Сартр, если не исследовать структуры будущего, то это значит неизбежно обречь себя на полное непонимание социального. Только учитывая проект как посредствующее звено между двумя моментами объективности (данной и новой, на пути к которой надо превзойти наличную данность), можно понять, по Сартру, человеческую созидательную деятельность и историю, в которой диалектика выступает как равнодействующая столкновения проектов. Иначе говоря, понимание своеобразия человеческого проекта позволяет уяснить, что результат этого столкновения – новая реальность.
Надо отдать должное умению Сартра как мастеру слова осуществлять тончайшие нюансировки смысла излагаемого им метода экзистенциализма и его проблематики. Сартр считает необходимым сделать ряд замечаний. Первое: данность, которую мы превосходим каждое мгновение уже тем, что ее переживаем, не сводится к материальным условиям нашего существования (это и наше детство, в котором осуществляется пока еще смутное восприятие себя, своей социальной обусловленности, и в то же время есть стремление из нее высвободиться, и наш характер, и манеры, и противоречивые роли, и первые протесты, и их следы, и отчаянные попытки превзойти подавляющую нас реальность, и многое другое). Таким образом, по Сартру, происходит осуществление возможного или наша объективация, которая выражается в самых различных формах. Главное, на что указывает французский философ, чтобы за материальными условиями, которые конституируют наше существование, не скрылась, не ускользнула конкретная реальность. Под ней Сартр имеет в виду некие индивидуальные особенности или механизмы их функционирования. Он считает, например, что скупость каких-то людей нельзя
Философские науки
объяснить только экономическими процессами или их социальной или классовой принадлежностью, что явление нужно изучать на разных уровнях и что у частных явлений может не быть абстрактных или общих причин. Скупость может зарождаться в раннем детстве, когда еще толком не знают, что такое деньги и, следовательно, она может быть особой манерой переживать свое сословие, свое положение в мире и даже быть определенным отношением к смерти. Вот почему, опираясь на экономические обоснования, нужно обязательно учитывать специфические черты изучаемого явления, которые в не меньшей степени могут выступать детерминирующими факторами. И, самое важное, нужно преломлять изучаемое явление через проект. Не надо все связанное с человеком растворять в экономическом; необходимо учитывать все опосредования, ибо одни и те же условия и обстоятельства жизни разными людьми переживаются по-разному и все поступки человека неотделимы от трансформирующего их проекта. По Сартру, мы переживаем наше детство как наше будущее, а потому наши поступки и роли – это то, что не зависит от крайних точек, которые они соединяют.
Преодолеваемые и сохраняемые, эти крайние точки создают то, что Сартр называет внутренней окраской проекта, а окраска субъективно выступает как его дух, а объективно как стиль, и она нацеливает человека на преодоление. Именно поэтому человеческая жизнь, человеческое существование проходят через одни и те же точки, но на разных уровнях интеграции и сложности. Движение – это постоянное превосхождение первоначальных данных, которые в то же самое время есть будущее. Наши роли – всегда будущее, ибо это и задачи, которые надо выполнить, и ловушки, которых нужно избежать, и способности, которые необходимо развить, и многое другое. Например, отцовство или же желание стать отцом может быть желанием отождествиться со своим отцом, заместить его или, напротив, освободиться, наконец, от него, но в любом случае эта прошлая или глубоко пережитая в прошлом связь с родителями оказывается путем к будущему или его моделью, которая открывает перед человеком всю его жизнь до самой смерти. И, самое главное, что осуществление этой роли (роли отца) требует приспособления ко все новым обстоятельствам и открытиям (например, открытию того, что прошлое становится будущим, которое предстоит осуществить). Таким образом, проект становится целенаправленной жизнью, самоутверждением человека через действия. Здесь все взаимосвязано, так, импульсы иррациональности из будущего проникают в детство, а из детства – в решения, принимаемые нами в зрелом возрасте.
Сартр предостерегает от опасности растворить или «потерять» событие или отдельного человека в тотализующем движении исто-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки
рии. Важно помнить, что одно и то же действие может оцениваться на все более и более конкретных уровнях, а значит, выражаться в различных значениях, которые должны объединяться, а не разводиться или пониматься как независимые. Если значения не будут рассматриваться как синтетические, многомерные, неразложимые, можно упустить человеческую реальность. То есть, другими словами, Сартр призывает учитывать то, что индивидуальные поступки надо рассматривать как партикуляризацию коллективных действий, и наоборот. Например, человек не думал устраивать политическую демонстрацию, он был озабочен своей личной судьбой, но то, что совершил в действительности, стало либо актом коллективного процесса, либо частью освободительного движения, и не могло не содержаться в неявной форме в том, как он оценивал свои действия в собственных глазах. Иногда два значения разделить невозможно, ибо они выступают двумя сторонами одного и того же объекта, придавая действию новые черты или вводя его новые измерения. Важно не забывать, что каждое значение трансформируется постоянно, и это его изменение отражается на всех остальных значениях. Тотали-зация должна открыть многомерное единство действия, а единство есть условие взаимопроникновения и относительной самостоятельности значений. Но всегда есть риск упростить или неадекватно воспроизвести сложное и многогранное единство, так как познание человека сегодня осуществляется с помощью старого мышления, в то время как диалектическое познание человека после Гегеля и Маркса требует новой рациональности, считает Сартр.
Второе замечание, которое делает философ, состоит в том, что проект с необходимостью должен пересекать поле инструментальных возможностей, а особенности инструментов в большей или меньшей степени трансформируют его и обусловливают объективизацию. Сартр анализирует поле культурных инструментов и языка, показывает взаимообусловленность производительных сил и научного знания и то, как производственные отношения через это знание очерчивают философию. Главный вывод, к которому приходит философ, – конкретная, переживаемая история порождает частные системы идей, выражающие в рамках этой философии реальные практические позиции определенных социальных групп. Разумеется, важен показ всего культурного поля, но не менее важно показать детерминацию части этого поля. Сартр постоянно указывает на значимость для истории локального, частного, индивидуального, подчеркивая, что индивидуум всегда находится в особом секторе инструментального поля. Это значит, что он располагает и слишком малочисленными элементами (например, количеством слов, видов умозаключений, методов и т.д.), что не позволяет ему надлежащим образом
Философские науки
выразить свои мысли, но одновременно и слишком многообразными (так как каждое слово может быть носителем глубинного значения, которым наделила его целая эпоха), что ведет к похищению эпохой его собственных мыслей. Тогда индивидуум либо говорит нечто большее и иное, нежели то, что хотел сказать, либо его мысль или идея оказывается сильно искаженной. Но как бы то ни было, нельзя, по Сартру, пренебрегать частным содержанием культурной системы и сразу сводить ее к всеобщности. Частная культурная система или частное мировоззрение – это сам человек, экстериоризирующий себя. Следовательно, именно это и обусловливает специфику и красочность культуры и истории.
Вот почему важно изучить все частности, все субъективные значения составляющих культуры и не спешить с классификациями и обобщениями, так как далеко не все творения духа поддаются классификации (по мнению Сартра, внутри каждой идеи действуют различные влияния, в том числе и взаимоисключающие). В равной степени это относится и к идеям прогресса, равенства, всеобщей гармонии и другим, которые уже нельзя принимать безоговорочно. Сартр убежден, что сохранение устаревших значений, абстрактная идеология всеобщности и многое другое ведут к искаженному пониманию исследуемых явлений, непониманию их истинных причин.
Методология исследования экзистенциализма и одновременно задача этой философии состоит в том, чтобы учитывать сопротивление уже пережитой истории схематизму apriori, понимать, что даже свершившаяся история, известная в частностях, неоднозначна (так как неоднозначны происшедшие события), и пояснять настоящее через будущее, оставляя за настоящим неясные аспекты, связанные с переживаемой изменчивостью.
Экзистенциализм, утверждая специфичность исторического события, стремится восстановить его функцию и множество измерений. Особенно важно учитывать то, что в наше время факт, как и личность, приобретает все более символический характер. Но экзистенциализм исходит из того, что без живых людей не может быть истории и, следовательно, главным его объектом является отдельный человек в социальном поле (в том числе среди других людей), помещенный в историческое целое и определяемый по отношению к ориентации будущего (при условии точно установленного смысла настоящего).
Позиционируя свой метод как эвристический, с помощью которого открывается новое, экзистенциализм называет его откровенно прогрессивно-регрессивным. Средством этого метода является, по Сартру, «челночное движение» (например, на основе изучения эпохи, продвигаясь вперед (progressivement), создается биография, а на основе изучения биографии характеризуется эпоха). Это челноч-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки
ное движение позволяет выявить в эпохе поле возможностей, поле инструментов и т.д., определить живую философию, изучить интеллектуальные позиции эпохи (а всякая виртуальная идея и интеллектуальная позиция предстает как дело (enterprise), подчиненное цели и на фоне реальных конфликтов). Сартр призывает учитывать также разрыв поколений, различие между общим и конкретным, обратное движение (regression) до материальных условий, изучать отличительное, проводить различительную интерпретацию частных гипотез, в абстрактных рамках всеобщих значений показывать историческое своеобразие объекта.
Сартр демонстрирует возможности своего метода на примере изучения творчества и личности Г. Флобера, которого представляют в литературе отцом реализма. Сартр пытается понять человека, писателя, заявившего о себе: «Эмма Бовари – это я», – и значение этого отождествления в его творчестве. Углубляясь в биографию писателя, Сартр обнаруживает у него такие «женские» черты характера, как зависимость, послушание и т.п. Далее исследователь выясняет, что на склоне лет врачи относились к Флоберу как к нервной пожилой женщине, чем немало польстили писателю, хотя Сартр ни в коей мере не считает Флобера извращенцем. Его интересует вопрос, почему писатель смог перевоплотиться в женщину, сопряженный с серией других вопросов: каким знанием обладает такая метаморфоза сама по себе, что представляет собой эта женщина, что означает в середине XIX в. превращение мужчины в женщину средствами искусства, кем должен быть Гюстав Флобер, если среди его возможностей оказалась возможность изобразить себя женщиной. Философ считает, что ответ не зависит от какой бы то ни было биографии, так как надо выяснить: «При каких условиях возможна феминизация опыта?».
В своих рассуждениях Сартр исходит из того, что стиль автора теснейшим образом связан с его миросозерцанием, а значит, могут помочь обнаружить скрытые предпосылки явления построения фраз, употребление и место существительных, глаголов, особенности повествования и т.п. Далее Сартр попытался посмотреть на результаты творчества Флобера глазами его современников. Бодлер считал, что глубинный смысл работы Флобера «Искушение святого Антония» тождествен глубинному смыслу «Госпожи Бовари», и что в «Искушении…» Флобер развивает великие метафизические темы эпохи: человеческий удел, жизнь, смерть, религия и т.д. Кем же должен быть Флобер, чтобы с разрывом в несколько лет в своем творчестве объективироваться в образе таинственного монаха и решительной, «слегка мужеподобной» женщины?
Переходя к биографии (а это факты, собранные современни-
Философские науки
ками и подтвержденные историками), Сартр стремился понять, действительно ли творчество – это более полная, более целостная объективация личности, чем ее жизнь, хотя, разумеется, творчество коренится в жизни. Но все-таки тотальное объяснение творчество находит (считает Сартр) в себе самом. Таким образом, произведение становится гипотезой и методом исследования для освещения биографии. Но Сартр понимает, что объективация в искусстве несводима к объективации в повседневном поведении и между произведением и жизнью – пропасть.
Произведение вскрыло то, что было присуще Флоберу как человеку: нарциссизм, одиночество, пассивность, женственность и другое. Сартр сумел увидеть за этим одновременно и роль социальных структур, и роль драмы детства. Другими словами, регрессивные вопросы позволили исследовать его семейную группу и отвергаемую в детстве реальность. Исходя из двух источников информации: объективных свидетельств о его семье и субъективных высказываний самого Флобера о своих родителях, брате и сестре, и т.п. Сартру удалось установить, что, хотя произведение заключает в себе истину биографии, которой не может содержать даже переписка, оно никогда не раскрывает тайн биографии и может быть только ориентиром для исследования жизни.
Переходя к объективному, то есть самой истории и историческим условиям, удалось воспроизвести подлинные особенности мелкобуржуазных семей. Изучение Флобера в детском возрасте (как всеобщности, переживаемой в особенном) обогатило общее представление о мелкой буржуазии, ее материальном существовании. Для Сартра важен анализ проекта, через который Флобер пытался оторваться от своей социальной группы. По мнению философа, этот проект имеет некоторый смысл: через посредство проекта человек предполагает создать в мире самого себя. Сущностью Флобера становится не просто абстрактное желание писать, а решение писать в определенной манере, чтобы проявить себя в мире, то особое значение, которое он придает литературе как отрицанию своего первоначального положения и как разрешению его противоречий. Обнаруживается ряд, ведущий от материальной и социальной обусловленности творчеству. Обращение к регрессивному анализу позволило вновь рассмотреть развертывание жизни, исследовать эволюцию выбора и действий. Сартр считает, что в «святом Антонии» выражен весь Флобер, сама его суть, все противоречия его изначального проекта. Но произведение, в котором он объективирует себя, - «Госпожа Бовари».
Если охарактеризовать Флобера как реалиста и сделать вывод, что реализм подходил этому времени, то роман окажется непонятым, непонятен будет автор. Но если попробовать показать объек-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Философские науки
тивацию и отчуждение субъективного, то можно будет понять, что Флобер питал отвращение к реализму, любя лишь абсолютную чистоту в искусстве. Но публика сразу решила, что автор реалист, и полюбила этот реализм, то есть эту великолепную замаскированную исповедь, где присутствует и скрытая метафизика. Почему читатели расценили это как прекрасно обрисованный женский характер (или беспощадное изображение женщины) в данном романе, в то время как это был лишь переряженный несчастный мужчина? Какого реализма требовала эта публика (или даже какого рода литературы)? Сартр считает, что произведение Флобера представило эпоху в новом свете, позволило задать новый вопрос: какова же была эпоха, потребовавшая такой книги и обманчиво нашедшая в ней свой собственный образ?
Последнее замечание Ж.-П.Сартра – человек определяется через свой проект. Он постоянно превосходит условия, в которых находится. Он раскрывает и определяет свою ситуацию, выходя за ее рамки, то есть трансцендирует. Проект – это постоянное созидание самих себя и наша подлинная структура. А экзистенция не устойчивая, покоящаяся в себе субстанция, а постоянная потеря равновесия, отрывание от себя самих всеми силами. Это порыв к объективации, устремляющий нас через поле возможностей, из которых мы выбираем одну и исключаем другие, это выбор или свобода. Выбор и надо исследовать. Ни один из поступков человека нельзя понять, не превосходя чистое настоящее и не объясняя его через будущее. Чтобы постичь смысл человеческого поступка, надо обладать пониманием. Понимание есть ни что иное, как моя реальная жизнь, то есть тотализующее движение, которое все сводит в синтетическое единство. Важно понимать, что будущее присутствует в недрах настоящего. Подводя итог своим рассуждениям, Сартр выражает надежду, что, несмотря на то, что в эпоху отчуждения нечеловеческое предстает в виде человеческого, человек станет по-настоящему привилегированным существом в обществе, которое будет ценить личный проект человека как частное осуществление человеческой реальности, поскольку она есть проект (французское слово pro-jicere, означающее, в частности, «бросать вперед», «держать впереди»). Таким образом, по его мнению, все изучаемые процессы в обществе получат экзистенциальное измерение, и будет, наконец, преодолено изгнание человека.
Проведенный анализ позволяет констатировать возможность методологического совмещения экзистенциализма и теории гендера, которое, во-первых, способно существенно обогатить методологию гендерных исследований, во-вторых, позволит им опереться на фундаментальное основание авторитетного философского направ-
Философские науки
ления XX века, которое, без сомнения, может служить прочным мостом в XXI в., где философия не может не рефлексировать о настоящем и будущем.
Ссылки:
-
1. Сартр Ж.-П. Проблемы метода. Статьи. М., 2008.
-
2. Ж.П. Сартр в настоящем времени. Автобиографизм в литературе, философии и политике: Материалы международной конференции в Санкт-Петербурге 8-9 июня 2005 года. СПб., 2006.
-
3. Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000. М., 2005.
-
4. Гендер и общество в истории. СПб., 2007.
-
5. Тикнер Дж. Энн. Мировая политика с гендерных позиций. М., 2006.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer
Список литературы О возможностях методологического совмещения экзистенциализма и теории гендера
- Сартр Ж.-П. Проблемы метода. Статьи. М., 2008.
- Ж.П. Сартр в настоящем времени. Автобиографизм в литературе, философии и политике: Материалы международной конференции в Санкт-Петербурге 8-9 июня 2005 года. СПб., 2006.
- Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000. М., 2005.
- Гендер и общество в истории. СПб., 2007.
- Тикнер Дж. Энн. Мировая политика с гендерных позиций. М., 2006.