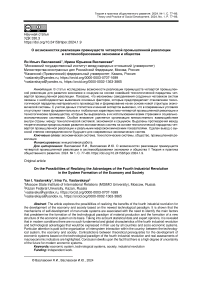О возможностях реализации преимуществ четвертой промышленной революции в системообразовании экономики и общества
Автор: Ваславский Я.И., Ваславская И.Ю.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследованы возможности реализации преимуществ четвертой промышленной революции для развития экономики и социума на основе новейшей технологической парадигмы четвертой промышленной революции. Показано, что механизмы самодвижения созданных человеком систем связаны с необходимостью выявления основных факторов, которые предопределяют становление технологической парадигмы материального производства и формирование на ее основе новой структуры экономической системы. С учетом данных статистики и мнений экспертов выявлено, что в современных условиях отсутствуют такие фундаментальные и глобальные характеристики четвертой промышленной революции и технологические преимущества, которые бы выражались в их использовании всеми странами и социально-экономическими системами. Особое внимание уделяется организации межсистемного взаимодействия внутри страны: между технологической системой, экономикой и социумом. Выделены противоречия между теоретическими предпосылками развития экономических систем на основе технологической парадигмы четвертой промышленной революции и реальными макроэкономическими показателями. Сделан вывод о высокой степени неопределенности будущего для современных экономических систем.
Экономическая система, технологические системы, общество, промышленная революция
Короткий адрес: https://sciup.org/149144648
IDR: 149144648 | УДК: 330.3 | DOI: 10.24158/tipor.2024.1.9
Текст научной статьи О возможностях реализации преимуществ четвертой промышленной революции в системообразовании экономики и общества
1Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия 2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия , ,
,
,
Введение . Актуальность понимания закономерностей развития системных целостностей в экономике, социуме и технологической сфере обусловлена изменением функций государства в условиях необходимости обеспечения целостности национальных социально-экономических систем при сокращении роста ВВП, усилении безработицы, возрастании бюджетного дефицита и усиления тенденций к изоляционизму на глобальном экономическом пространстве. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о том, существуют ли в современных условиях возможности перевода социально-экономических систем на технологическую парадигму четвертой промышленной революции.
Четвертую промышленную революцию (Индустрию 4.0) обычно связывают с появлением новых технологий на стыке цифрового, биологического и физического миров1, что предполагает массовое внедрение информационных технологий в промышленность, автоматизацию бизнес-процессов и распространение искусственного интеллекта. Однако само представление о фундаментальном и глобальном характере четвертой промышленной революции, проявлении и использовании ее преимуществ во всех странах мира и социально-экономических системах (Schwab, 2016) вызывает неоднозначную реакцию исследователей и экспертов, причем их мнения по этому вопросу зачастую диаметрально противоположные.
С одной стороны, по данным опроса Глобального института Маккинзи, еще в 2019 г. 68 % респондентов считали Индустрию 4.0 главным стратегическим приоритетом2. Пандемия показала, что цифровые технологии, машинное обучение и искусственный интеллект стали важной частью жизни человечества и могут быть полезны обществу, например, для отслеживания эффективности медикаментов, общения с помощью цифровых онлайн-камер, а также для проведения рабочих совещаний, онлайн-обучения, спорта, концертов, искусства и т. д. Достаточно много публикаций посвящается преимуществам применения в экономике и бизнесе новых технологий3 (Дэвенпорт и др., 2022).
С другой стороны, эксперты отмечают снижение темпов роста производительности труда, кризисы в отношениях между странами, связанные с внедрением новых технологий, отсутствие единых мировых стандартов разработки и внедрения киберфизических систем. Особенно острые споры связаны с проблемой искусственного интеллекта как основы четвертой промышленной революции (Маслов, Лукьянов, 2017; Лукьянов, 2019). По мнению А. Фурсова, главная ошибка в восприятии социумом происходящих технологических изменений состоит в попытках увязать интернет-экономику с четвертой промышленной революцией, которая, по его мнению, ориентирована, в основном, на сферу обращения, а не на реальную экономику4.
Большинство экспертов отмечают как положительное, так и отрицательное влияние технологических инноваций на экономику и общество. К отрицательным эффектам внедрения новых технологий относят сокращение рабочих мест в результате технологической безработицы, сокращение доходов и социальных гарантий, рост неравенства, закредитованность населения и компаний, снижение темпов экономического роста, уровня конфиденциальности, этические проблемы, а также в целом негативное влияние четвёртой промышленной революции на экономику и общество (Иншакова, 2018; Бутов, 2019; Балацкий, 2019).
Рассматривая категорию «экономики» в качестве примера, следует подчеркнуть, что каждая национальная экономическая система реализует технологические достижения с учетом собственных возможностей. Именно поэтому нет ни одной похожей друг на друга национальной экономики в плане использования возможностей новых технологий. Следовательно, разобравшись с теоретической моделью сочетания основных факторов производства на доминирующей технологической базе в каждый конкретный момент, можно при глубоком анализе специфических особенностей конкретной национальной экономики ответить на вопрос: почему в одной стране результативность экономики выше, а в другой – ниже, и действительно ли ориентация социально- экономических систем на якобы новую технологическую базу четвертой промышленной революции несет в себе потенциал социально-экономического прогресса.
Формирование технологической базы развития экономических систем . В анализе особенностей национальной экономической системы необходимо выделить два аспекта, связанных с (1) технологической парадигмой (и реализацией заложенного в ней потенциала) и (2) механизмами организации технологических процессов, положительным и отрицательным отбором экономической деятельности. Предваряя дальнейшее изложение материала, выдвинем следующие теоретические положения, которые будут обоснованы использованием диалектической логики.
Во-первых, технологическая база формируется путем широкомасштабного внедрения научно-технических открытий и технологических новаций в производственные процессы. На этой основе реализуется организационный механизм конструирования интеграционных объединений дифференцированной экономической деятельности. Другими словами, сначала должна сформироваться новая технологическая парадигма, и экономическая система должна приобрести качества динамической, структурируя новые элементы в диалектические пары в процессе своего саморазвития. И только с появлением новой структуры экономическая система возвращается к статичному состоянию, поскольку приобретает возможность усложняться посредством своей самоорганизации (самоструктурирования) на новой технологической базе.
Таким образом, без новой технологической парадигмы экономика не может приобрести качества динамичной и реализовать способность к саморазвитию. Однако и для статичной экономики технологическая база имеет первостепенную значимость, поскольку обеспечивает более широкие возможности интеграции дифференцированных видов экономической деятельности. Более того, технологический прогресс предопределяет общесистемное самодвижение во всех сферах жизнедеятельности человека.
Во-вторых, на сложившейся технологической базе самоорганизующиеся системы усложняются сначала за счет формирования горизонтального уровня структурных связей, а затем – структурной иерархии. Однако без изменения технологического фундамента сложившаяся экономическая система не способна генерировать постоянно растущий эффект от масштаба. Самоорганизация системы в ее статичном состоянии проходит оптимум в своем развитии (когда единство превалирует над противоположностями), а далее она постепенно, по мере возрастания ее хрупкости, за счет причинно-следственных вертикальных структурных уровней будет все более терять темпы наращивания эффекта. Это создает условия для шокового разрушения структуры сложившейся самоорганизующейся системы, что приводит к разрыву непрерывности в ее самоорганизации (статичных изменениях) (Vaslavskiy, Vaslavskaya, 2022). После разрушения структуры система как бы минует точку невозврата, оказавшись на этапе своего саморазвития с новой технологической базой и сложнейшими диалектически организованными элементами.
Собственно, саморазвитие экономической системы начинается с внедрения новой технологической парадигмы во все сферы жизнедеятельности общества, включая саму технологию и экономику. Фактически на этой стадии происходит увеличение количества элементов вследствие положительного отбора в результате многовариантной их специализации, на основе которого отрицательный отбор будет приводить к взаимодействию элементов. И только те из них, которые образуют диалектические пары, станут структурой системы, способной к самоорганизации. Таково общее представление о диалектике сложной системы, созданной человеком: она выступает в двух ипостасях – в статике и динамике, обладая способностью и к самоорганизации, и к саморазвитию.
Именно с этими фундаментальными изменениями авторы связывают существующие противоречия между изложенными выше теоретическими предпосылками развития экономических систем на основе технологической парадигмы четвертой промышленной революции, мнениями исследователей о кардинальном отличии будущего от нынешней ситуации (Смирнова, 2008; Долгих, 2019), а также высокой степени неопределенности будущего для современных экономических систем (даже в случае развитых стран мира).
Одной из определяющих характеристик четвертой промышленной революции называют цифровизацию практически всех сфер человеческой жизни. В таком качестве она должна была выступить как один из факторов саморазвития экономической системы и возможности использования ее потенциала посредством организационных инструментов (Скляр, Кудрявцева, 2019). На практике распространение новых информационных технологий оказало влияние на многие сферы, но это касается в основном сбора информации, ее обработки и оцифровки, хранения данных и расширения возможностей мониторинга отдельных социально-экономических процессов, но не промышленного сектора экономии. Этот вывод подтверждается данными статистики.
Анализ реальных экономических показателей, например, динамики производительности труда, свидетельствует о существенном замедлении темпов роста производительности труда в
2009–2017 гг. в развитых странах и НИС1 по сравнению с 2000–2008 гг., и в настоящее время составляет, в расчете по ВВП за вычетом сферы услуг, чуть более 0,4 %. Что касается России, то по информации аналитического агентства «TAdviser», основанной на данных Росстата, в 2022 г. производительность труда в России сократилась на 3,6 %, что стало самым резким падением с 2009 г., когда спад составил 4,1 %. При этом доля России в мировом ВВП опустилась до минимума относительно 1998 г. – 2,87 %2.
Эти данные отражают отсутствие каких-либо значимых технологических достижений, в том числе существенного влияния цифровизации на экономику, и вообще «никак не соотносятся с утверждением о том, что в эти годы якобы наблюдается четвертая промышленная революция»3. Кроме того, у большинства стран среднегодовые темпы прироста валовой добавленной стоимости на одного занятого в промышленности, за последние 30 лет неуклонно снижались, а у ряда государств в 2010-е гг. они даже были отрицательными (Леденёва, Плаксунова, 2022). Таким образом, состояние экономики России и развитых стран не отражает значительного влияния четвертой промышленной революции на формирование новой технологической парадигмы.
В условиях исчерпания возможностей самоорганизации статичными экономиками логично предположить, что трансформация статичной экономики в динамичную, на основе т. н. преимуществ четвертой промышленной революции, если и произойдет в будущем, то с совершенно неопределенным сценарием ее саморазвития. Это связано с тем, что специфику периода саморазвития современной экономики в плане модельного его описания определяет преимущественно становление энергетической составляющей технологической базы. Замещение энергетики с огромным выбросом СО 2 в атмосферу «зеленой» безотходной энергетикой было заявлено еще в 2012 г. как фундаментальная характеристика новой технологической парадигмы и основа устойчивого развития экономики4. Однако многие эксперты считают «зеленую» экономику мифом, воплощение которого в жизнь невозможно даже с точки зрения технологического обеспечения, и что на современном этапе «зеленая» энергетика дорога, неэффективна и в принципе нереальна, а сама идея о снижении СО2 до нуля означает гибель реального сектора экономики и развития технологий5. И для такого взгляда на «зеленую» экономику есть все основания в виде отсутствия интеграции экономических, социальных и экологических факторов в производстве, основанном на новых безопасных технологиях.
Технологический прогресс предопределяет точку «невозврата», отделяющую саморазвитие экономических систем от их самоорганизации. В этой связи целесообразно определить закономерности усложнения самих технологий. Начало этих преобразований кроется в труде человека как способе взаимодействия между ним и природой. Создание орудий труда было подчинено цели сначала облегчения, а потом и повышения результативности трудового процесса, что означало рост уровня удовлетворения потребностей людей. Таким образом, технологический прогресс служит стремлению людей облегчить собственный труд и сделать его более производительным для максимизации человеческой полезности (Mokyr, 2005).
Российский экономист Е. Балацкий, рассматривая возможности и угрозы со стороны четвертой промышленной революции с точки зрения воздействия на рынок рабочей силы, выделил в числе негативных эффектов проблему обесценивания самого труда, что может привести к вытеснению не только физического, но и умственного труда. Он также убедительно обосновал, что в новых условиях существующее биологическое неравенство будет усугублять рост социального неравенства (Балацкий, 2019).
О том, что информационное общество характеризуется тенденцией возрастания социального неравенства и поляризации, испанский социолог М. Кастельс писал еще в 1996 г. Он выделил три фундаментальных «социальных разлома» информационной эпохи: внутренняя фрагментация рабочей силы на информациональных производителей и заменяемую родовую рабочую силу; социальное исключение значительного сегмента общества, состоящего из сброшенных со счетов индивидов, чья ценность как рабочих/потребителей исчерпана; разделение рыночной логики глобальных сетей потоков капитала и человеческого опыта жизни рабочих1.
По результатам оценки факторов, ограничивающих рост промышленного производства и производственную деятельность в целом, на основе данных Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и Росстата, в числе основных проблем, помимо экономической неопределенности и недостаточного спроса на продукцию, называется недостаток квалифицированных рабочих (Остапкович, Липкинд, Лола, 2022). Несмотря на вполне объективные причины этой ситуации, такие как санкционное давление и связанные с ним разрывы цепочек поставок у предприятий, использующих западное оборудование и комплектующие, нехватка рабочей силы наверняка вызовет снижение объемов производства. В этих условиях работодатели с целью экономии средств и сохранения формальной занятости используют выгодный для них механизм, основанный на сокращении горизонтов стратегического планирования инвестиционной и инновационной деятельности, оптимизации численности занятых и затрат на фонд оплаты труда. В результате сокращается налогооблагаемая база, общий уровень безработицы формально не будет интенсивно расти, а неформальный рынок труда получит приток рабочей силы. Здесь уместно вспомнить о предупреждении Дж. Кейнса о широком распространении технологической безработицы, «поскольку открытие способов экономного использования труда опережает темпы выявления новых применений труда» (Кейнс, 1931).
Все это означает, что решение экономических проблем на основе расширения технологических возможностей так или иначе будет сопровождаться обострением социальных проблем, связанных с ухудшением демографической ситуации и обесцениванием умственного труда. По сути, для России начинает срабатывать так называемая неомальтузианская ловушка, для которой характерно замедление экономического роста и динамики подушевого ВВП (Балацкий, 2019). Более того, по мнению А. Фурсова, четвертая промышленная революция на деле не является ни промышленной, ни революцией, и призвана биологически закрепить социальное неравенство2.
Таким образом, можно констатировать, что императив о взаимосвязи степени целостности социума и темпов технологического и экономического прогресса на современном этапе не работает. И хотя все чаще высказываются мысли о неприемлемости для общества роста верхнего и нижнего уровня социальной шкалы, кризиса в системе образования, теоретически все они пока представляют собой отдельные, не связанные между собой клеточки фундаментальной мозаики.
На практике технологические изменения, в том числе связанные с развитием цифровизации и искусственного интеллекта, в условиях прогнозирования снижения объемов производства и сокращения занятости в промышленности в целом не меняют реальной ситуации, а выступают как отдельные элементы упрощения коммуникаций в экономике и социуме. На основании вышеизложенного можно предположить, что процесс адаптации национальных социально-экономических систем к специфике этапа саморазвития будет длительным, зависящим от множества условий, факторов и обстоятельств национального и глобального характера. В связи с этим возникает вопрос о правомерности рассуждений о преимуществах четвертой промышленной революции и формировании якобы новой технологической базы в современных условиях.
Развитие экономических систем на основе изменения технологических структур . Важнейшим аспектом развития национальных экономических систем является организация межсистемного взаимодействия внутри страны: между технологической системой, экономикой и социумом. Эта проблема является фундаментальной, поскольку она только в последнее время стала приобретать значимость в современных статичных экономиках вследствие кризиса, вызванного пандемией Covid-19. В этой связи важно понять, что проблемы и в экономике, и в технологической сфере, в контексте формирования новой технологической базы и саморазвития систем, имеют социальные корни.
Появление качественно новых системных компонентов генерирует технологические возможности для многочисленных способов их организации как в самой технологической базе, так и в ориентирующейся на нее экономической системе. Речь идет о необратимых процессах, которые ассоциируются с усложнением и технологических систем, и экономики, но уже в форме саморазвития. Фактически синхронизируется последовательность разрыва непрерывности в эволюции прежней самоорганизации на уровне технологии и экономики. Саморазвитие социальноэкономической системы начинается и заканчивается перестройкой технологической базы и внедрением новой технологической парадигмы, технологий и способов организации взаимодействия. В этом суть саморазвития экономических систем. Именно в этом смысле все известные технологические парадигмы названы в честь того элемента новой ее структуры, который позволил по-новому объединить другие технологические элементы, части, комплексы, процессы и т. п., дав толчок необратимому саморазвитию технологии и основанной на ней экономики.
Технологический прогресс, как и любой процесс самодвижения системных целостностей, с усложнением технологий реализуется либо за счет появления новых элементов, частей, комплексов, либо посредством увеличения разнообразия форм их организации посредством положительного (специализации) и отрицательного (интеграции) их отбора. При этом новые и новейшие специализированные технологии могут формироваться на основе сочетания (интеграции) уже существующих. Й. Шумпетер называл такую комбинацию ключевой движущей силой процесса развития (Schumpeter, 1954). Особое внимание при этом следует обратить на выделенную им взаимосвязь «новой комбинации средств производства» (технологий) и новых источников энергии, приводящих их в действие. Только такой комплекс взаимодействующих технологий предопределяет (или потенциально несет в себе) появление новой технологической парадигмы, отрицающей старую индустриальную базу.
На протяжении многих десятилетий технология усложнялась, демонстрируя способность объединять и разъединять свои элементы, части, комплексы, процессы, а также генерировать новые их конгломераты или интегративные комплексы специализированных технологий (Perez, 2002). Именно в ходе многообразных организационных преобразований время от времени возникали такие технологические структуры, которые были названы паровыми, электрическими, химическими, цифровыми и в основе которых лежала, как правило, определенная доминирующая технология. При определенных способах интеграции они становились общедоступными и многократно увеличивали потенциальные возможности их многовариантных форм организации не только в технологии и экономике, но и в остальных сферах человеческой деятельности.
Такие комплексные возможности, привнесенные специфической формой «упаковки» технологий, получили название технологических революций, способных каскадно преобразовать не только технологическую базу, но и экономику в целом. В результате новые технологии порождают очередные новые технологии, например, с появлением компьютеров появился спрос на технологии хранения данных, компьютерные языки, вычислительные алгоритмы, полупроводниковые переключатели и т. п. (Arthur, 2009).
На рубеже XXI в. стали развиваться технологии, связанные с возможностью формирования киберфизических систем, соединяющих реальные объекты с информационными процессами или виртуальными объектами через информационные сети, включая интернет. Однако такие элементы и процессы, как автономные роботы, большие данные, дополненная реальность, аддитивное производство, облачные вычисления, кибербезопасность, интернет вещей, интеграционные системы, моделирование и т. п. нельзя назвать новой технологической парадигмой. Реальные изменения в технологическом укладе генерируются современными возможностями технологических прорывов (Piore, Sabel, 1984).
Цифровые технологии, основанные на аппаратном, программном обеспечении и сетях, и их способность к интеграции в различные сферы человеческой деятельности возрастает и, безусловно, оказывает определенное влияние на трансформацию национальных экономик, поэтому современный период развития технологий называют «вторым машинным веком» (Бринолфссон, 2014). Однако это не означает возникновение «индустриальных переломов», или поворотных точек (Doeringer, Piore, 1970; Boyer, 1986). В авторском понимании речь идет о пределах сложности, которые возникают в самоорганизации структуры технологической системы как проявление регрессивности прежней технологической парадигмы. Именно она создает объективные условия для разрыва непрерывного процесса самоорганизации статичной экономики, которая, к тому же, прошла точку оптимума, сформировав вертикальную иерархию структурных уровней по принципу причинно-следственных зависимостей.
Промышленные (технологические) революции знаменуют саморазвитие системы за счет появления новых элементов (частей, процессов), научных открытий (прорывов) в технологии, а также неограниченных возможностей их организации в контексте интеграции, дифференциации, комбинирования и распространения во всех сферах человеческой деятельности. Только тогда можно говорить о том, что происходит смена технологической парадигмы по причине исчерпания ее возможностей, что проявляется в устойчивом замедлении темпов роста производительности труда, экономического эффекта и прибыли компаний. Видимо, поэтому Р. Aллен в своей книге «Промышленная революция в миниатюре» сделал вывод о том, что в конце 2000-х гг. в большинстве развитых стран потенциал дальнейшего роста производительности в условиях существующего экономического и технологического уклада оказался близок к исчерпанию, прежняя технологическая парадигма исчерпала свои потенциальные возможности, и ориентация на нее промышленного производства даже в развитых странах мира стала очень дорогостоящей для национальных сообществ (Allen, 2009).
С. Московиц сделал оценку предполагаемого экономического эффекта от внедрения сквозных технологических процессов для всех видов производств в форме автоматизации, роботизации и интеллектуализации, согласно которой вклад технологий в прогнозируемый экономический рост составит от 40 до 90 %1. По прогнозам экспертов Глобального института Маккинзи, потенциальный экономический эффект от внедрения технологий, способных изменить жизнь, бизнес и глобальную экономику в ближайшие годы, составит в пределах 14–33 трлн долл. США2 (McKinsey, 2019).
С точки зрения К. Фримэна и К. Перес (Freeman, Perez, 1988), такой значительный эффект может быть получен, но только за счет несущих продуктов и промышленных секторов, которые вносят вклад во всю систему и увеличивают эффективность универсальных технологий. В результате диффузии новой технико-экономической парадигмы из нескольких ведущих секторов во всю остальную экономику, в отрасли, производящие капитальные товары и соответствующие услуги, срабатывает механизм мультипликации новых технологий. Макроэкономический эффект при этом определяется масштабами формирования и развития форм организации новых технологий.
Массивы новых технологий, адаптированные в рамках экономики и опробованные в промышленности, в сочетании с существующими бизнес-процессами, определяют новые направления экономической деятельности. Речь идет о формировании взаимодействия между элементами, процессами и системами в технологии и экономике, что характеризует их динамику на стадии саморазвития. Для этого необходимо пресечь непрерывность этапа самоорганизации и переступить точку «невозврата» в направлении неопределенного будущего – динамики на этапе саморазвития созданных человеком систем. Чтобы парадигма стала технологической базой экономики в будущем, а все сферы человеческой деятельности интегрировали в себя новейшие технологические разработки, необходимо множество социально-экономических условий.
Таким образом, для промышленной революции, в результате которой должна измениться сама суть экономических процессов и отношений, нужна технологическая и социальная база. В реальности нет новых энергетической и транспортной платформ, не произошло массового внедрения принципиально новых материалов и, самое главное, нет значительных сдвигов в области энергоэффективности производства3. Зато есть целый перечень проблем, связанных с недооценкой возможных негативных социальных последствий от развития сектора цифровых технологий, представленного технологической базой четвертой промышленной революции. А сам дискурс о ней направлен лишь на формирование положительного восприятия человеком технологий цифровизации и тотального контроля.
Необходимо отметить, что в таких условиях государство выступает главным партнером бизнеса, поскольку может позволить себе более серьезные риски по сравнению с последним.
Заключение . Углубление представлений о механизмах самодвижения созданных человеком систем авторы связывают с необходимостью выявления основных факторов, которые предопределяют становление технологической парадигмы материального производства и формирование на ее основе новой структуры экономической системы. Логика изложения материала позволяет понять сущность взаимосвязи и взаимовлияния технологии и экономики, а также сделать следующие выводы.
Фактически технология и организационные возможности ее внедрения в разнообразные сферы экономики (как и другие сферы жизнедеятельности человека) реализуют потенциальные возможности НТП. В этом контексте все формы организации экономической деятельности на технологической базе целесообразно представлять в связи с реализацией заложенного в них потенциала.
По мнению У.Б. Артура1, новая технология в форме технологических комплексов может генерировать непрекращающиеся волны возмущения, вызывающие новые возмущения как в технологии, так и во всех сферах человеческой деятельности. В результате более интенсивными и ускоренными должны становиться процессы самоорганизации структур системных целостностей в технологии и связанной с ней экономике. Это обусловлено тем, что мультипликация технологических нововведений постоянно в ускоренном темпе нарушает равновесное состояние систем, и самоорганизующаяся структура, отвечающая за их целостность и устойчивость, вынуждена в ускоренном режиме формировать структурные связи для восстановления их равновесия.
Однако развитие цифровых технологий, заявленное как преимущество четвертой промышленной революции, не смогло остановить падение уровня производительности труда в промышленно-развитых странах и НИС. Цифровизация обеспечила лишь перераспределение ресурсов из менее производительных секторов с невысокой добавленной стоимостью в более производительные, например, в сферу услуг. По мнению экспертов, основными факторами, которые сдерживают рост производительности в мире, являются замедление темпов развития глобальных производственно-сбытовых цепочек, спад экономической диверсификации, урбанизация и снижение отдачи от инновационной деятельности (Gold, 2021).
Обсуждения четвертой промышленной революции касаются в основном проблем деятельности высококвалифицированных работников цифровых специальностей и последствий их миграции в страны с более высоким уровнем жизни и анализа эффективности конкретных цифровых технологий. Особое место занимают споры о проблемах реализации социально-экономических прав человека и социальных последствиях цифровизации разных сфер жизни человека, и даже предлагаются меры их минимизации для фирм и правительств (Li, Hou, Wu, 2017; Тучкова 2019).
Однако мнения о влиянии четвертой промышленной революции на производственный сектор неоднозначны и в основном касаются таких ее негативных проявлений, как сокращение потребности в персонале, падение доходов и социальных гарантий, ухудшение условий занятости, сокращение социальных программ, рост неравенства, а также повсеместное снижение темпов экономического роста (Бутов, 2019).
Таким образом, отдельно взятые цифровые технологии не формируют технологический фундамент для развития промышленности и экономики в целом, поскольку не содержат в себе потенциальные возможности значительно более многообразных форм организации прежде всего производственного сектора (в виде комплексов с разными вариантами сочетания интеграции и дезинтеграции). Это обусловлено тем, что те диалектически взаимодействующие структурные механизмы, которые уже сложились, сами по себе комплексные. Именно они предопределяют возможности успешного саморазвития в условиях поддержки масштабных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы на территории России, использования интеллектуального и ресурсного потенциала страны, обеспечения целостности общества. И только государство, как главный регулятор с опорой на реальный сектор экономики, может запустить эти процессы.
Список литературы О возможностях реализации преимуществ четвертой промышленной революции в системообразовании экономики и общества
- Балацкий Е.В. Глобальные вызовы четвертой промышленной революции // Terra Economicus. 2019. Т. 17, № 2. С. 6–22. https://doi.org/10.23683/2073-6606-2019-17-2-6-22.
- Бринолфссон Э., Макафи Э. Вторая эра машин: работа, прогресс и процветание в эпоху блестящих технологий» / пер. с англ. П. Миронова. М., 2014. 381 с.
- Бутов А.А. Достижения и последствия четвертой промышленной революции // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2019. № 4 (106). С. 17–22. http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2019-4-17-22.
- Долгих А.Ю. Кардинальные версии будущего: опыт систематизации футурологии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 55–64. https://doi.org/10.17223/1998863Х/50/6.
- Иншакова А.О. Реакция права на вызовы высоких технологий в инновационной России // Правовая парадигма. 2018. Т. 17, № 4. С. 6–15. https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2018.4.1.
- Искусственный интеллект, аналитика и новые технологии / Т. Дэвенпорт [и др.]; пер. с англ. М. Белоголовского. М., 2022. 200 с.
- Кейнс Дж.M. Экономические возможности наших внуков // Эссе об убеждениях (послесловие Д. Шестакова) // Вопросы экономики. 2009. № 6 С. 60–69. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-6-60-69.
- Леденёва М.В., Плаксунова Т.А. Динамика производительности труда стран мира и суть четвертой промышленной революции // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2022. Т. 24, № 2. С. 237–246. https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2022.2.20.
- Лукьянов И.В. Инновационная экономика и искусственный интеллект как движущие факторы четвертой промышленной революции // Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019. T. 9, № 7A. С. 215–224.
- Маслов В.И., Лукьянов И.В. Четвертая промышленная революция: истоки и последствия // Вестник московского университета. Серия 27: глобалистика и геополитика. 2017. № 2. С. 38–48.
- Остапкович Г.В., Липкинд Т.М., Лола И.С. Деловой климат в промышленности в марте 2022 г. М., 2022. 21 с.
- Скляр М.А., Кудрявцева К.В. Цифровизация: основные направления, преимущества и риски // Экономическое возрождение России. 2019. № 3 (61). С. 103–114.
- Смирнова К.А. Понятие неопределенности экономических систем и подходы к ее оценке // Вестник МГТУ. 2008. T. 11, № 2. C. 241–246.
- Тучкова Э.Г. Проблемы реализации социально-экономических прав человека в условиях четвертой промышленной революции // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 11. С. 48–53. https://doi.org/10.17803/2311-5998.2019.63.11.048-053.
- Allen R.C. The Industrial Revolution in Miniature: The Spinning Jenny in Britain, France, and India // Journal of Economic History. 2009. Vol. 69, no. 4. Pp. 901–927. https://doi.org/10.1017/S0022050709001326.
- Arthur W.B. The Nature of Technology: What it is and How it Evolves. New York. 2009. 240 p.
- Boyer R. La théorie de la régulation. Une analyse critique. Paris, 1986. 142 p. = Бойер Р. Теория регулирования. Критический анализ. Париж, 1986. 142 c. (на фр. яз.)
- Doeringer P., Piore M. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. New York. 1970. 248 р. https://doi.org/10.4324/9781003069720.
- Freeman C., Perez C. Structural Crisis of Adjustment, Business Cycles and Investment Behavior // Technical Change and Economic Theory / ed. by G. Dosi London, 1988. Pp. 39–62.
- Gold E.R. The fall of the innovation empire and its possible rise through open science // Research Policy. 2021. Vol. 50, no. 5. P. 104226. https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104226.
- Li G., Hou Y., Wu A. Fourth Industrial Revolution: technological drivers, impacts and coping methods // Chinese Geographical Science. 2017. No. 27 (4). Pp. 626–637. https://doi.org/10.1007/s11769-017-0890-x.
- Mokyr J. The intellectual origins of modern economic growth. Journal of Economic History. 2005. Vol. 65, no. 2. Pp. 285–351. https://doi.org/10.1017/S0022050705000112.
- Perez C. Technological Revolutions and Financial Capital. Tallinn, 2002. 224 p.
- Piore M.J., Sabel C.F. The Second Industrial Divide. New York. 1984. 355 p.
- Schumpeter J.A. History of Economic Analysis. London, 1954. 1320 p.
- Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva, 2016. 172 p.
- Vaslavskiy Y., Vaslavskaya I. The Post-COVID-19 Future: State Capability in Ensuring Shared Prosperity // Institutions and Economies. 2022. Vol. 14, no. 1. Pp. 27–47. https://doi.org/10.22452/IJIE.vol14no1.2.