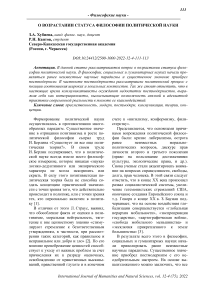О возрастании статуса философии политической науки
Автор: Хубиева З.А., Каитов Р.Н.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 12-4 (75), 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается вопрос о возрастании статуса философии политической науки. В философии, социальных и гуманитарных науках начали проявляться ранее неизвестные научные парадигмы и существенное значение приобрел постмодернизм. В частности постмодернисты рассматривали политический процесс с позиции соотношения широких и локальных контекстов. Так же стоит отметить, что в настоящее время коммуникативисты осуждают недостатки постмодернистов, выражая себя как интеграционисты, высказывающие возможность связной и адекватной трактовки современной реальности в полноте ее взаимодействий.
Преемственность, модерн, постмодерн, коммуникация, теории, концепции
Короткий адрес: https://sciup.org/170197066
IDR: 170197066 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-12-4-111-113
Текст научной статьи О возрастании статуса философии политической науки
Формирование политической науки осуществлялось в противостоянии многообразных парадигм. Существенное значение в отрицании позитивизма и росте политической философии сыграл труд И. Берлина «Существует ли все еще политическая теория?». В своем труде И. Берлин подчеркивает, что в политической науке всегда имело место философское измерение, которое никакая «наука» логико-дедуктивного или эмпирического характера не могла искоренить или скрыть. В силу этого позитивистская политическая теория была не способна создать концепцию практической значимости с точки зрения того, что действительно происходит в политике, или с точки зрения тех, кто персонально включен в политику [1].
В отличии от этого Л. Страус, выявил, что обособление факта от оценки в позитивизме, моральная нейтральность, тяготение к вне ценностному знанию «стимулируют стремление к безответственным утверждениям, в частности, при рассмотрении таких категорий, как правильное и неправильное или добро и зло» [2]. По его мнению пренебрежение ценностей способствует к уходу от важных проблем за счет причисления их к разряду оценочных, освобождению от нравственных высказываний, нравственной глухоте и в конечном счете к «нигилизму, конформизму, филистерству».
Представляется, что основными причинами возрождения политической философии были: кризис либерализма, острота ранее неизвестных моральнополитических вопросов, дискурс прав личности второго и третьего поколения (право на пользование достижениями культуры, экологические права, и др.). Снова ученые стали акцентировать внимание на вопросах справедливости, свободы, долга, прав человека. В этой связи следует отметить, что в конце XX века произошел развал социалистической системы, увеличение гегемонистских стремлений США, окончание создания Европейского союза и т.д. Говоря о конце XX в. З. Бауман подчеркивает, что на основе воздействия глобализации совершенствуется «глобальная иерархия мобильности», «экспроприация государства», «картографическая война», «свобода мобильного меньшинства» и «эксклюзия прикрепленного к земле большинства» [3].
В результате всего этого в философии, социальных и гуманитарных науках начали приволировать ранее неизвестные научные парадигмы. Существенное значение приобрел постмодернизм с его неодобрительным настроем. На основе вышеизложенного можно заключить, что все рассмотренные процессы характеризуют неопределенность, переходность современного периода совершенствования политической науки и политической философии. Следует заметить, что в философских и политических разработках делаются попытки определения, что такое современность, на каком этапе мы сейчас находимся: модерна или постмодерна (современности или постсовременности). Ряд ученых указывают на необходимость соблюдение преемственности с классикой, другие – «за» разрыв с прошлым. Подобная ситуация увеличивает значение учета социального и интеллектуального контекста науки, а соответственно возрастает статус философии политической науки.
Как справедливо отмечают Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, Ф. Джеймисон и др. постмодернистский период совершенствования развития политической науки следует связывать с 19701990-ми гг. Представляется, что постмодернисты трактуют политический процесс с позиции соотношения широких и локальных контекстов. Возрастание взаимообусловленности совершенствования государств и народов в мировой системе, взаимодействия общественной, экономической, политической, культурной сфер порождает новую неопределенность. Вместе с тем постмодернисты не соглашаются с общей методологией в пользу частной, переходят от всеохватывающего к ситуати-визму, откликаясь на процесс разваливания легитимности государственной власти и авторитета общественного порядка, увеличение значения групповых ценностей и идентичностей в ситуации глобальной мобильности и неустойчивости, падения роли социальных норм. С позиции Ж.-Ф. Лиотара истекшими оказываются «великие нарративы» модерна: нарратив Просвещения и нарратив Духа, нарратив современной науки, которые вели к тотальности, универсальной связности событий и текстов и их связной интерпретации. Данный язык теории уже не создает возможности для изображения постсовременности. В этой связи отметим, что Лиотар восхваляет роль различий, предполагаться необходимым приживаться к несовместимости, по- лагаться не на «большие», а на «малые» (местные, локальные, мобильные) нарративы, которые в ситуации увеличения неопределенности и неустойчивости еще способны изображать социальные отношения. Не большие нарративы как локальные методы познания и стратегии действия, дают возможность меньшинствам и местным сообществам ориентироваться в политике и защищать свои права.
Следует отметить, что существенная заявка на адекватную трактовку политической области осуществлена коммуникативными теориями политики. В настоящее время коммуникативисты осуждают недостатки постмодернистов, выражая себя как интеграционисты, высказывающие возможность связной и адекватной трактовки современной реальности в полноте ее взаимодействий. Еще в 1950-1960-е годы некоторые авторы высказали мысль о политике как системе информационных потоков [4], использовали понятие «обратная связь» и обосновали ее значение. В этой связи заметим, что Ю. Хабермас понимает политическую область как мир общений и коммуникативных действий. В тоже время политологи Р. Дентон и Г. Вудворд в своей теории политической коммуникации выявили, что «политический язык естественным образом настраивает к рассмотрению частных инвестиций, персональных и групповых потребностей как обслуживающих располагающий к себе символизм публичного интереса» [5].
Представляется, что весьма интересную теорию социума сетевых структур предлагает М. Кастельс, а А. Турен в своей социологии субъектов действия, указывая уменьшение традиционного политического поля, возлагает надежды на новые неформальные движения, которые способны разработать новые политические поля. Необходимо подчеркнуть, что в пределах современных концепций коммуникации проводится попытка преодолеть методологический пессимизм и нигилизм постмодернистских исследовательских программ.
Подводя итоги отметим, что перед философией политической науки возникает существенная гносеологическая, онтологическая и эпистемологическая задача обеспечить синтез политической науки и политической философии, все положительное в развивающихся течениях, чтобы способствовать найти ответы на проблемы, обусловленные обществом риска, смягчить общественную напряженность.
Список литературы О возрастании статуса философии политической науки
- Сморгунов Л.В. Политическая философия и наука // Miscellanea humanitaria philosophiae. Очерки по философии и культуре. Вып. 5. - СПб., 2001. - 217 с.
- Strauss L. What is political philosophy? - Chicago, 1959.
- Бауман 3. Глобализация: последствия для людей и общества. - М.: Весь мир, 2004. - 89 с.
- Arendt Н. The Human Condition. - Chicago, 1959.
- Denton R.E., Woodward С.С. Political Communication in America. - N.Y.: Praeger, 1985. - P. 19.