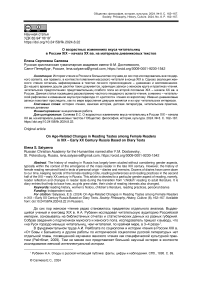О возрастных изменениях вкуса читательниц в России XIX - начала XX вв. на материале дневниковых текстов
Автор: Саляева Е.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
История чтения в России в большинстве случаев до сих пор исследовалась вне гендерного аспекта, как правило, в контексте появления массового читателя в конце XIX в. Однако эволюция женского чтения осталась зафиксирована в текстах личного происхождения - дневниках и воспоминаниях. До нашего времени дошли десятки таких документов, хранящих записи о женском круге и практиках чтения, читательских предпочтениях представительниц слабого пола во второй половине XIX - начале XX вв. в России. Данная статья посвящена рассмотрению частного гендерного аспекта чтения, а именно - читательской рефлексии и изменению вкуса при переходе от «детского» чтения ко взрослому. Именно дневниковые записи помогают проследить, как по мере взросления девушек менялся и их круг читательских интересов.
История чтения, женская история, детская литература, читательские практики, личные дневники
Короткий адрес: https://sciup.org/149146136
IDR: 149146136 | УДК: 82-94“18/19” | DOI: 10.24158/fik.2024.8.22
Текст научной статьи О возрастных изменениях вкуса читательниц в России XIX - начала XX вв. на материале дневниковых текстов
Санкт-Петербург, Россия, ,
St. Petersburg, Russia, ,
До сих пор женское чтение редко становилось предметом отдельного анализа. Выдающийся ученый и книговед XIX в. Н.А. Рубакин исследовал читательскую аудиторию Российской империи, основываясь на библиотечных отчетах и статистических данных из разных губерний. Собрав сведения о подписчиках мужского и женского пола, исследователь пришел к выводу, что «на Руси гораздо меньше читательниц, чем читателей, по крайней мере, в 3–4 раза»1.
В фундаментальном труде А.И. Рейблата по социологии и истории чтения в России XIX в. «От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы» нет отдельной главы, посвященной изучению женского чтения как специфической культурной практики (Рейтблат, 2009). Тем не менее оно представляет большой научный интерес в контексте исследования женской интеллектуальной истории.
О детском чтении девочек в дореволюционной России также нет отдельных крупных исследований.
Ценными материалами для исследования как детского, так и взрослого чтения можно считать дневниковые тексты. Ведение дневников как ежедневная или сравнительно регулярная практика поощрялось при воспитании девочек в России XIX в. На их страницах часто фиксировались прочитанные книги, сведения о литературных предпочтениях, описывались практики чтения. Цель данной статьи – показать, как менялись вкусы юных российских читательниц в процессе взросления. Основными материалами исследования стали женские дневники и воспоминания.
Анализируя корпус данных документов второй половины XIX – начала XX вв., можно отметить, что многие авторы дневников фиксируют в своих подневных записях собственный круг чтения и читательские практики. Таким образом, дневники становятся одним из важнейших материалов для исследования истории женского чтения в дореволюционной России.
Частным предметом исследования в гендерном аспекте чтения является изучение изменения литературных предпочтений по мере взросления.
Многие женщины начинали вести дневник еще в детском возрасте. Елизавета Дьяконова, представительница купеческого рода из Нерехты, сделала первые записи в 11 лет. Дворянка Мария Башкирцева стала записывать свои впечатления уже в возрасте 12 лет, правда, сама она отмечает, что ее дневник «представляет интерес только с 15–16 лет»1. По мере взросления на страницах дневниковых текстов появляются размышления о конструировании персональной идентичности, рефлексия о психологических изменениях в процессе взросления: «Возвращаясь с прогулки, я говорила себе, что не буду похожа на других, которые сравнительно серьезны и сдержанны. Я не понимала, каким образом приходит эта серьезность? Каким образом совершается этот переход от детства к положению молодой девушки? Я спрашивала себя, каким образом совершается это? Постепенно или вдруг?»2. Именно дневниковые записи помогают проследить, как по мере взросления девушек менялся и круг читательских интересов.
В начале XIX в. еще сложно представить разделение детской и взрослой литературы. Несмотря на то, что специализированные издания для аудитории несовершеннолетних появляются уже в XVIII в., они были далеки от современных представлений о детской литературе. Например, в журнале русского просветителя Николая Новикова «Детское чтение для сердца и разума», выходившем в 1785–1789 гг. в виде приложения к газете «Московские новости» и заложившем традицию российской детской журналистики, публиковались исторические повести и переводы поэтов-романтиков. После победы в Отечественной войне 1812 г. патриотический подъем отразился и на детской литературе. Большое количество авторов обращались к русской истории, создавая произведения для детей и юношества. Одно из самых известных из них – «История государства российского» Н. Карамзина (Карамзин, 2023), написанное как наставление юношеству, – стало важным историческим произведением на многие годы.
С 1830-х гг. в России начинают публиковаться сборники народных сказок, однако эти книги носили скорее этнографический и академический характер.
В 1850-е гг. уже можно было встретить отдельные книги для детей самого разного возраста, но даже в дворянских семейных библиотеках могло не быть специализированной литературы для детского чтения. В воспоминаниях Е.Н. Водовозовой указывается: «Ввиду того, что у нас в доме совсем не было книг для детского чтения, да и вообще их тогда почти не существовало, я ежедневно должна была прочитать один рассказ из Анны Зонтаг и несколько страниц из Пушкина»3.
Расцвет детского книгоиздания и повышенный интерес к вопросам педагогического влияния чтения в России возникает лишь в 60-е гг. XIX в. в контексте либеральных реформ. Издаются первые учебники и азбуки для народных школ, постепенно вырабатывается канон литературы, признанной полезной для детского чтения: «К концу XIX столетия сформировался круг наиболее рекомендуемых для детского чтения произведений: произведения таких зарубежных авторов, как И. Гете, Ф. Шиллер, У. Шекспир, В. Скотт, Ч. Диккенс, У. Теккерей, А.-В. Грубе; произведения отечественных авторов М.Б. Чистякова, А. Разина, Е. Водовозовой, Д.В. Григоровича, Л.Н. Толстого, А.С. Грибоедова, Н.М. Карамзина, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, В.А. Жуковского» (Лисович, 2017: 87).
В предисловии к «Истории русской детской литературы» А.П. Бабушкиной перечисляются произведения, которые также впоследствии войдут в канон русской детской литературы: «Русские народные сказки, сказки Пушкина, Ершова, Жуковского, Аксакова, повести Гоголя, басни Крылова, сказки Антония Погорельского, Вл. Одоевского, “Записки охотника” Тургенева, “Детские годы Багрова-внука” Аксакова, рассказы и повести для детей Л. Толстого, рассказы Ушинского, Марко
Вовчок, рассказы и повести Чехова, Короленко, Мамина-Сибиряка, Гарина, Гаршина, Горького, стихи Пушкина, Кольцова, Некрасова, Огарева, Фета, Тютчева, Блока» (Бабушкина, 1948: 3).
Большую роль в формировании канона сыграли учителя-словесники, которые вели уроки по литературе на материале авторов-современников и их предшественников. Так, в дневнике педагога-словесника Н.Ф. Шубкина есть информация о содержании учебной программы в женской гимназии в 1911 г.: «В VI классе, например, все 2-е полугодие я посвящаю изучению иностранной литературы (эпоха Возрождения и Шекспир, эпоха абсолютизма и Мольер, эпоха “Бури и натиска” и Шиллер, эпоха реакции и “мировой скорби” и Байрон); а в VIII – в последние два года проходил Герцена, Л. Толстого, Некрасова, Гл. Успенского и Чехова»1.
Практически все канонические авторы встречаются на страницах девичьих дневников. В записях гимназистки Нины Агафонниковой встречается упоминание произведений С.Т. Аксакова: «Сегодня кончила читать милую “Семейную хронику” Аксакова. Мне так нравится!.. С удовольствием, с увлечением читала. Так искренно, так просто! Как обезоруживающе спокойно всё это написано!»2. «Семейная хроника», впервые опубликованная в 1856 г., до сих пор остается примером рекомендуемой литературы для детей и юношества3. Представительница купеческого рода из Нерехты Елизавета Дьяконова много пишет об А.С. Пушкине: «Из всех русских писателей я Пушкина люблю более всех и перечитываю его бесчисленное множество раз»4. Также в ее дневнике встречается большое количество цитат И. Крылова и А. Кольцова. Анна Аллендорф, учащаяся Нижегородского Мариинского Института благородных девиц, вспоминает о празднике к столетию со дня рождения Н. Гоголя в гимназии с чтением отрывков из его произведений: «Юбилей Гоголя! Столетие со дня его рождения. Во всех учебных заведениях чувствуется его память. В нашей прогимназии тоже было “Гоголевское утро”, и я присутствовала на нём. В 1-м отделении Э.К. Раткина прочла биографию Гоголя, и это вышло немножко скучно и длинно, во 2-м отделении девочки читали отрывки из гоголевских произведений, но далеко не все читали удачно»5.
Таким образом, канон детской литературы получил свое отражение на страницах девических дневников, при этом лидерство по количеству упоминаний принадлежит произведениям Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. Из популярных зарубежных авторов, чьи произведения также вошли в канон детской литературы, в дневниках встречается упоминание В. Скотта, Ч. Диккенса, Ж. Верна.
Во второй половине XIX в. происходит расцвет детской журналистики. В условиях невысокого распространения грамотности среди младшего поколения первые журналы были в первую очередь предназначены для родительской аудитории и носили просветительский характер. В одном из первых журналов «Библиотека для чтения» (1843–1846) под редакторством Д.А. Валуева выходили материалы, посвященные истории Российского государства, памятникам прошлого, истории и быту славянских народов. «Не было в журнале ни иллюстраций, ни развлекательного раздела, так как редактор считал, что для юных читателей главное состоит “в добротности статей, составляющих журнал”» (Башурова, 2007).
Если первые периодические издания носили научно-популярный характер и были предназначены для чтения детьми любого пола, то позднее появляется гендерная спецификация. Так, начинают издаваться специализированные издания для девочек, например, журнал «Лучи» или научно-литературный журнал для взрослых девиц «Рассвет».
В дневниках второй половины XIX – начала XX вв. есть упоминания о чтении детских журналов. Запись в дневнике Анны Аллендорф за август 1901 г.: «Сегодня пришёл “Родник”, но я почти ничего не буду из него читать, кроме “Дети улицы”»6. В дневнике Нины Агафонниковой за февраль 1910 г. говорится о другом популярном детском периодическом издании: «Эта повесть в “Задушевном слове” – “Джаваховское гнездо”»7. В дневнике Анны Аллендорф встречается упоминание того же популярного издания: «До обеда почти всё время провела с Нюськой, читая ей рассказы из “Задушевного слова”»8.
Этот журнал под редакторством Маврикия Вольфа можно считать самым успешным из всех, издаваемых в то время для детей и юношества. Он выходил с 1876 по 1918 гг. и успешно соответствовал запросам самых юных читателей. Ежегодно подписчикам рассылался «Вопросный листок», призванный выяснить у читателей информацию о наиболее понравившихся произведениях и авторах. Зачастую лидерами этих опросов становились А.С. Пушкин и Ж. Верн.
Именно с журнала «Задушевное слово» начинается карьера одной из самых знаменитых детских писательниц начала XX в. – Л.А. Чарской. Она считается прародительницей жанра «девичьей повести». Главными героинями ее произведений становились женщины, девочки и девушки, что видно уже из названий произведений: «Княжна Джаваха»1, «Люда Влассовская»2, «Генеральская дочка»3, «Сибирочка»4. Действие произведений Л.А. Чарской часто разворачивается в женских институтах и пансионах, а главной темой становится повседневная жизнь девочек, описание их переживаний. Л.А. Чарская стала настоящим феноменом детской литературы. В работе историка педагогики Н.В. Чехова «Введение в изучение детской литературы: изложение лекций народным учителям на летних курсах по вопросам детской литературы и детского чтения» (1915) она называется «наиболее популярной из современных детских писательниц»5. Несмотря на критику однообразности героев и сюжетов произведений Л.А. Чарской, Н.В. Чехов отмечает, что она «обладает редким умением связывать в одно целое нить самых разнообразных и часто удивительных приключений»6. Чтение произведений Л.А. Чарской часто упоминается на страницах женских дневников. В записях Нины Агафонниковой говорится о ее статье «Профанация стыда»7 и повести «Джаваховское гнездо»8. В дневнике гимназистки Татьяны Де-Метц есть упоминание о чтении другого популярного романа Л.А. Чарской – «Люда Влассовская». При этом содержание этого произведения становится предметом спора между двумя юными читательницами: «Читаем мы “Люда Влассовская” и доходим до места, где выступает шведка – Нора Трахтенберг (и Катя, и я уже раньше читали эту книгу), которая впоследствии выдает начальству одну из своих товарок – Марусю по прозванию Краснушку, провинившуюся тем, что сделала гадость одному учителю, и ее хотят исключить, но сам учитель заступается за нее. Maman грозила еще до ее выдачи сбавить в годовом отметки за поведение всему классу, если не скажут, кто сделал ее. Я и говорю: “Фу, противная Нора!” А Катя ее защищает, говоря, что Краснушка подло поступила, что аттестаты 40 человек были бы испорчены дурной отметкой и т. д., но я нахожу, что Нора тоже гадко сделала, выдавая подругу и, зная, что она будет исключена! Ну, вот мы и спорили до самого конца, и каждая все-таки осталась при своем убеждении!»9.
Из наиболее популярных зарубежных детских писательниц в дневниках также упоминается американская писательница Л.М. Олкотт. В записях Ольги Долговой от 28 апреля 1896 г. говорится: «Теперь я не интересуюсь русскими писателями и книгами научного содержания, а стараюсь как можно больше читать таких книг, где описываются дети моих лет, их характеры, мысли, желания и стремления. В этом отношении для меня очень хороши повести Л. Олькот»10. Удивительно, что в столь юном возрасте Ольга Долгова отмечает характерные особенности и отличительные черты произведений, которые делают их привлекательными для детского чтения.
Меняющийся характер чтения – от детского ко взрослому – можно проследить на примере некоторых дневников. В личных записях гимназистки Нины Агафонниковой зафиксировано очень интересное замечание об изменении отношения к творчеству Л.А. Чарской в связи с собственным взрослением: «Талант у Чарской, по-моему, измельчал. Эта повесть в “Задушевном слове” – “Джаваховское гнездо” – мне кажется хуже ее первых произведений <…> Но, может быть, я и ошибаюсь, может быть, не талант Чарской измельчал, а я перестала интересоваться ее статьями – переросла их? Ведь мне – семнадцать лет…»11. В другом фрагменте дневника Агафонникова жалуется на собственное бездействие и при этом негативно отзывается о чтении детских книг, по-видимому, считая это недостойным занятием для своего возраста: «Не могу я больше так жить! Не хватает мне какого бы то ни было дела. Ведь я сижу и читаю Чернышевского, наполовину думая о другом, фантазируя и мечтая не в меру <…> Одни газеты, один Чернышевский, один “Дон Кихот”, одно шитье и одни фортепьянные упражнения – не удовлетворяют меня. Мало мне этого: делать, что-нибудь живое делать мне надо, а никуда я не могу пойти, ни с кем не могу сойтись, ничего не могу делать. И от этих тревог зачитываюсь детскими книжками, хватаюсь за легкие и глупые фельетоны каких-то гаденьких журналов»1. Еще в одном фрагменте дневника Агафонниковой отмечается то, как обучение в женской гимназии позитивно повлияло на изменение характера чтения девушки: «Очевидно все-таки эти годы курсов не пропали совершенно даром – чтение только одних романов, рассказов, повестей не удовлетворяет меня, сочинения по вопросам научно-поставленных литературных исследований действуют как-то освежающе и тянут к себе»2.
В дневнике гимназистки Татьяны Де-Метц зафиксировано изменение читательских предпочтений, которое также наглядно показывает переход от «детского» ко «взрослому» чтению: «Сегодня я кончила чудную книгу: “Quo vadis” Сенкевича. До того, как я прочитала ее, я говорила, что самая интересная книга – это “Юность Кати и Вари Солнцевых”, но теперь я вижу, что “Quo vadis” гораздо поэтичнее, интереснее, содержательнее – одним словом, несравненно лучше пер-вой»3. В этом фрагменте сравнивается девичья повесть писательницы Е.Н. Кондрашовой, посвященная институтской жизни в 1820-х гг.4 и исторический роман польского классика Г. Сенкевича «Quo vadis» («Камо грядеши»), действие которого разворачивается в Римской империи времен правления Нерона5. Несомненно, предпочтение последнего девичьей повести свидетельствует о повороте в сторону более серьезного чтения.
Так как дневники зачастую начинали вести в юном возрасте, то по записям можно проследить, как постепенно менялись читательские вкусы женщин по мере их взросления. На страницах подобных документов обнаруживаются упоминания о произведениях авторов, к нашему времени ставших каноническими для детской литературы. Среди них: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, С.Т. Аксаков; из зарубежной литературы следует назвать В. Скотта, Ч. Дикксенса и Ж. Верна.
Помимо классического канона, в круг чтения девочек в конце XIX – начале XX вв. входили произведения популярных писательниц-современниц, таких как Л.А. Чарская и Л.М. Олкотт. В нескольких дневниках наглядно зафиксирован момент перехода от «детского» ко взрослому чтению. Девушки анализируют изменение отношения к творчеству когда-то любимых авторов, связывая это с собственным взрослением, либо просто фиксируют появление новых читательских вкусов, связанных с предпочтением более серьезной литературы.
Список литературы О возрастных изменениях вкуса читательниц в России XIX - начала XX вв. на материале дневниковых текстов
- Бабушкина А.П. История русской детской литературы. М., 1948. 480 с.
- Башурова А.М. Особенности детской журналистики России XVIII, XIX вв. // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2007. № 2-2 (30). С. 150-152. EDN: PCFMYV
- Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 2023. 1024 с.
- Лисович В.Н. Развитие детского чтения в России в XIX веке и его роль в воспитании подрастающего поколения: вопросы теории // Непрерывное образование. 2017. № 1 (19). C. 86-89.
- Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М., 2009. 447 с.