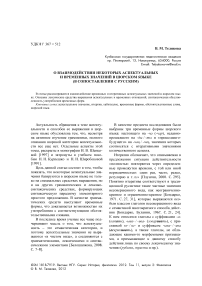О взаимодействии некоторых аспектуальных и временных значений в шорском языке (в сопоставлении с русским)
Автор: Телякова Вера Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается взаимодействие временных и итеративных аспектуальных значений в шорском языке. Описаны лексические средства выражения аспектуальных и временных отношений, синтаксическая обусловленность употребления временных форм.
Аспектуальное значение, итертив, хабитуалис, временные формы, обстоятельственные слова, шорский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14737750
IDR: 14737750 | УДК: 81'
Текст научной статьи О взаимодействии некоторых аспектуальных и временных значений в шорском языке (в сопоставлении с русским)
Актуальность обращения к теме аспекту-альности и способов ее выражения в шорском языке обусловлена тем, что, несмотря на активное изучение грамматики, полного описания шорской категории аспектуально-сти все еще нет. Отдельные аспекты этой темы, раскрыты в монографии И. В. Шенцо-вой [1997] и затронуты в учебном пособии Н. Н. Курпешко и Н. Н. Широбоковой [1991].
Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать, что некоторые аспектуальные значения базируются в шорском языке не только на специальных средствах выражения, но и на других грамматических и лексикосинтаксических средствах, формирующих синтаксическую парадигму элементарного простого предложения. В качестве грамматических средств выступают временные формы, что доказывается возможностью их употребления с соответствующими обстоятельственными словами.
В последнее время ученые все чаще подчеркивают мысль о том, что аспектуаль-ность – это семантическая категория, и поэтому аспектуальные значения не выражаются «в чистом виде», а соединяются с грамматическими, лексическими и синтаксическими элементами [Белошапкова, 2008. C. 7–8].
В качестве предмета исследования были выбраны три временные формы шорского языка: настоящего на -ча ( -чар ), недавнопрошедшего на -ды / -ты и «прошедшего-будущего» на -ча^ / -че^ , значения которых соотносятся с итеративными значениями количественного аспекта.
Итератив обозначает, что описываемая в предложении ситуация действительности «полностью повторяется через определенные промежутки времени, с той или иной периодичностью: один раз, часто, редко, регулярно и т. п.» [Плунгян, 2000. С. 295]. Понятию итератива соответствуют в традиционной русистике такие частные значения несовершенного вида, как неограниченнократное и ограниченно-кратное [Бондарко, 1971. С. 27, 31], которые выражаются особым классом глаголов несовершенного вида с семантикой многократного способа действия [Бондарко, Буланин, 1967. С. 21, 24]. К ним относятся глаголы с суффиксами -а- ( кап а ть ), -ыва- /-ива- ( говар ива ть ), с приставкой вз- / вс- и суффиксом -ыва- / -ива ( вс крик ива ть ), а также глаголы, не обладающие какими-то морфемными признаками, а примыкающие к данному способу действия лишь по своему лексическому значению (рубить , трясти и пр.).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 2: Филология © В. М. Телякова, 2012
Данное аспектуальное значение опирается и на временные формы. А. В. Бондарко, характеризуя категорию темпоральности, обращает внимание на то, что она «перекрещивается с аспектуальностью» [1971. С. 6], поэтому называет глагольные формы видо-временными, подчеркивая тем самым взаимодействие вида и времени как самостоятельных, но связанных друг с другом категорий.
В шорском языке многократное аспектуальное значение соотносится с формами настоящего простого времени на -ча ( -чар ) и прошедшего простого на -ды . Процесс перехода вспомогательного глагола чат- во временной синтезировавшийся формант -(п)ча охарактеризован в научной литературе [Грамматика алтайского языка, 1869 (2005). С. 71; Дыренкова, 1941. С. 193; Гаджиева, Серебренников, 1986. С. 86; Кур-пешко, Широбокова, 1991. С. 29]. О происхождении аффикса -ды существует несколько точек зрения, которые подробно представлены в монографии А. М. Щербак [1981. С. 78]: одни ученые считают, что он восходит к вспомогательному глаголу тур- (В. В. Радлов) либо i- (А. Казем-Бек), другие к аффиксу принадлежности 3-го лица (А. Н. Кононов), большинство же возводят данную форму к имени действия, субстантивному или адъективному (О. Бетлинг, П. М. Мелиоранский, Н. К. Дмитриев, Н. А. Баскаков, Б. А. Серебренников и А. М. Щербак) [Там же].
Значение повторяющегося действия у временных форм возникает в результате «взаимодействия грамматических и лексических элементов темпоральности» [Бон-дарко, 1971. С. 67]: грамматическое значение формы реализуется в контексте как значение повторяющегося действия; «лексические же показатели темпоральности сообщают дополнительную информацию о том, что действие» не прикреплено к какой-то точке или к одному определенному отрезку настоящего [Там же. С. 67, 69].
В шорском языке итеративное значение временной формы определяется такими обстоятельственными словами, как коп ‘много, часто’; пир-пир темде ‘иногда’; пирееде ‘иногда’; сочетаниями знаменательного и служебного слова сая / сайя / зая / зайя , например:
Чайын наFбур коп чагды [Дыренкова, 1941. С. 69] ‘Летом дождь часто идет’; На-гбур сугу кун сайа ур тушти [Фольклор шорцев, 2010] ‘Дождь каждый день лил’; Ацчылар пирееде апшак одурдилер [Дырен-кова, 1941. С. 229] ‘Охотники иногда медведя убивали.’
Одним из значений итератива является хабитуалис , в грамматическую семантику которого входит описание регулярно повторяющихся ситуаций, привычных действий, становящихся характеристиками свойств субъекта. Его основной содержательной особенностью является то, что «появление у динамической ситуации хабитуального осмысления автоматически превращает ее в нединамическую (т. е. в описание «свойства», а не процесса») [Плунгян, 2000. С. 295].
Как показывает наш материал, хабиту-альные значения опираются в основном на две временные формы шорского языка: на настоящее время - ча ( -чар ) и на «прошедшее-будущее» время -ча^ /-че^ .
Настоящее время на -ча ( -чар ) широко употребляется в одноактантных предложениях, в которых реализуется два значения.
-
1. Значение обычного, постоянного обобщенного действия, способности или свойства, характеризующих живые и неживые предметы. В них показатель -ча ( -чар ) выражает неопределенное, неконкретное значение настоящего времени, не относящееся к определенному моменту речи и не зависящее от другого действия. В русском языке в подобных предложениях тоже преобладает настоящее несовершенное время, которое выражает значение «настоящего потенциального» с оттенком способности, умения [Бондарко, 1971. С. 71]. Подразумевается способность делать что-то вообще, а не в момент речи: Он курит ; Она хорошо вяжет и т. д. В русском языке потенциальное значение настоящего времени близко к неограниченно-кратному значению несовершенного вида, но обладает дополнительным модальным признаком действия, возможного в любой момент. То же самое наблюдается и в шорском языке:
-
2. Второе значение настоящего времени в одноактантных предложениях соответствует, по нашему мнению, русскому «конкретно-процессному» значению несовершенного вида [Бондарко, Буланин, 1967. С. 55]: действие, представленное как развивающийся и длящийся процесс, происходит в определенный отрезок времени, на который указывают различные лексические элементы: со-нында ... алында ‘с ... по’; ол (по) шенде ‘в то (это) время’; знаменательные слова в форме местно-временного падежа, а также сочетания знаменательных слов с послелогами тоонче ‘до’ (N ABL + N DAT тоонче), пеере ‘с, со’ (N ABL пеере), шыгара ‘в течение’ (N DAT шыгара). Например:
Ошку сусча ‘Коза бодается’; Ургедигчи ургетча ‘Учитель учит’; Кижилербе ац-куштарба агаштар агрыпчалар ‘Люди, звери, деревья болеют.’
Октябрьдиц сонында - ноябрьдиц алында кузегей чаныннац соок салгын шапча [Чиспияков, 1992. С. 110] ‘С октября по ноябрь с севера холодный ветер дует’; Эртен-нец карагыы (карагыга) тоонче куштар коглешчалар [Дыренкова, 1941. С. 235] ‘С утра до ночи птички поют’; Кечегидец пеере узупча [Там же] ‘Со вчерашнего дня спит.’
Форма недавнопрошедшего времени на -ды / -ты возможна в этом значении, если сфера действия ограничена рамками прошлого и не прикреплена к определенному периоду, например:
Ацчы адайба уш кунге шыгара теп-теген чорди [Там же. С. 104] ‘Охотник с собакой в течение трех дней напрасно ходил (т. е. охотился)’.
В многоактантных предложениях аффикс -ча в основном реализуется в своем втором значении настоящего времени, т. е. указывает на обычное, повторяющееся обобщенное действие, не локализованное во времени:
Ноо, алында-пурунда, не знаю кайдыF аймакта полFан, кдттар честекке чорчат-тырлер. ЧайFыда эзе, честекке чорчалар , но, чыылыжбал честекке партырлар [Фольклор шорцев…, 2010. С. 302] ‘Ну, давным-давно, не знаю, в каком селе было, женщины за ягодой пошли. Летом, эзе, (всегда) за ягодой ходят , ну, собравшись за ягодой пошли’.
Слова всегда нет в оригинале, но оно подразумевается, так как речь идет о действии, регулярно происходящем в это время года.
Обычность обобщенного действия в настоящем времени подчеркивается также употреблением форм 3-го л. мн. ч. в неопределенно-личном значении:
АFаштар аразынга торбас салчалар [Чиспияков, 1991. С. 66] ‘Между бревнами мох кладут (всегда, когда строят дом)’; Чостарды тарткыба айFылапчалар [Там же] ‘Деревянные плахи (тес) рубанком строгают.’
Благодаря значению обобщенного действия, настоящее время на -ча часто используется в пословицах и поговорках:
Чабал адай кундус урча ‘Плохая собака лает только днем’; Пай кижиниц малы олец оттапча, чок кижиниц малы тобырак чалFапча ‘Скот богатого человека траву ест, скот бедного человека землю лижет’.
Перейдем к анализу «прошедшего-будущего» времени на -чац / -чец. Как отмечают Н. П. Дыренкова [1941. С. 184] и вслед за ней Э. Ф. Чиспияков [1992. С. 82], значение этой формы – «обычность, повторность действия, необходимость совершения действия (“бывает”, “совершается вообще”, “обыкновенно”, “будет обязательно”, “было обычно”). Эта форма употребляется для выражения действия, которое имело место в прошлом, которое было обычно и повторялось много раз» [Дыренкова, 1941. С. 185].
Наш материал показывает, что, вопреки утверждению Э. Ф. Чиспиякова о том, что «время на -чац выражает <_> действие обычное, вообще присущее субъекту, без строго отнесения к какому-либо времени» [1992. С. 82], в предложениях могут присутствовать слова, привязывающие действие к какому-то определенному времени или указывающие на временные рамки:
Кан тужында тайгада шорлар часкыда аштачаӊнар [Дыренкова, 1941. С. 186] ‘В царское время в тайге шорцы весной обычно голодали’.
Обычно аффикс -чац /-чец используется, чтобы выразить постоянное или обычное действие в прошлом, поэтому чаще всего встречается в фольклорных текстах и рассказах о прошлом. Реже обозначает постоянное и обычное действие в настоящем (обычно в пословицах и поговорках). Если действие относят к будущему времени, эта форма обозначает необходимое, обязательное действие. Приведем примеры предло- жений в прошедшем, настоящем и будущем времени:
Томазактыц пайлары таныш кижилерге, туган кижилерге садыжарFа ацча пер- чец нер. Пеш чус селковыйдец, уш чус селковыйдец тииц, албыга, цолэнац аларFа пер- чец нер. Ол кижилерди сагайFа - сагай черинге тук мал аларFа ыс чац нар. Кошта черлерде постары пайлар чореп чыг чац нар. <^> [Дыренкова, 1941. С. 300] ‘Мысков-ские богачи знакомым людям, родным людям, чтобы торговать, деньги давали. По пятьсот целковых, по триста целковых, чтобы белку, соболя, колонка брать, давали. Тех людей в Сагаи – Сагайскую землю – пушнину брать посылали. В близких землях сами богачи ходили (и) собирали (пушнину)’; Киик палазы туктуг полчац, кижи па-лазы аттыг полчац [Дыренкова, 1941. С. 186] ‘Детеныш козули (обычно) бывает с шерстью, ребенок человека (обычно) бывает с именем’; Ол алыптыц колына кирген кижи по черге катнап паспачац [Там же] ‘Человек, который в руки того богатыря попал, по этой земле больше не ходит (можно: ходить непременно не будет)’; Парчаӊмыс [Там же. С. 187] ‘Мы обязательно поедем’.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что шорские формы настоящего времени на -ча ( -чар ) и недавнопрошедшего на -ды / -ты взаимодействуют с аспектуальными значениями. Такое явление наблюдается и в русском языке, где соотношение значений аспектуальности и тем-поральности – уже доказанный факт. Третья форма «прошедшего-будущего» времени на -чац / -чец не имеет аналогов в русском языке. Ее значение очень близко к аспектуальному: она используется для обозначения обычного, повторяющегося действия или состояния в прошлом или настоящем.
Возможность передавать повторяемость и обычность событий заложена в грамматическом значении описанных временных форм: они обладают признаком нелокализо-ванности во времени, т. е. временные формы на -ча, -чац, -ды выражают неактуальное время без указания на отнесенность действия к моменту речи. Это соответствует русскому настоящему несовершенному или прошедшему несовершенному времени. В одноактантных предложениях формы на -ча обозначают настоящее потенциальное с оттенком способности и умения. В одноактантных и многоактантных предложениях временные формы на -ча и -ды выражают действие повторяющееся или обычное.
Однако значения итератива и хабитуали-са не являются для временных форм на -ча и -ды основными. Это легко доказывается тем, что в выражении данными временными формами повторяемости и обычности действия участвуют различные элементы контекста: обстоятельства, слова и конструкции с обстоятельственным значением, грамматическая форма 3-го л. мн. ч. Временная форма настоящего-будущего времени на -чац менее подвержена влиянию контекста: она может передавать обычность и повторяемость действия или состояния и без обстоятельственных слов, что, на наш взгляд, свидетельствует об аспектуальном характере значения этой формы.
REGARDING THE INTERACTION OF CERTAIN ASPECT AND TEMPORAL RELATIONS IN THE SHOR LANGUAGE (COMPARED TO THE RUSSIAN LANGUAGE)