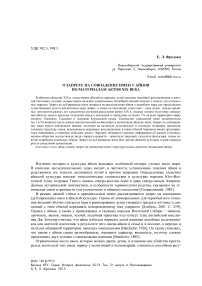О запрете на совпадение имен у айнов по материалам актов XIX века
Автор: Фролова Евгения Львовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В обществе айнов XIX века существовал обычай не называть детей в честь умерших родственников или жителей деревни, что делало каждое имя уникальным. Подобная практика зафиксирована у многих тунгусов. Запрет на дублирование имен был основан на том, что айны рассматривали загробную жизнь как продолжение существования души в ином мире, эквивалентном существованию живых, а также на соотношении «одно имя = одна душа». Анализ архивных документов разных периодов и ареалов проживания айнов в XIX веке показал отсутствие совпадения их имен в пределах одной семьи или общины, с дублированием менее 1% на всей территории современных Хоккайдо, Сахалина и Курильских островов. Количество случаев совпадения незначительно (до 1,6%) увеличилось после начала насильственной ассимиляции и японизации айнов. Запрет строго соблюдался айнами, несмотря на их регулярные сезонные миграции, сложную структуру семьи, включающую некровных родственников, и обычай менять имена после возрастных посвящений и значимых жизненных событий. В устном обществе передачу обширной информации осуществляли пожилые люди, т.е. е. хранители традиций, сказители фольклора, члены местных советов старейшин. Запрет на дублирование имен был частью культуры айнов и играл важную роль в их социальной организации.
Короткий адрес: https://sciup.org/147220308
IDR: 147220308 | УДК: 392.3,
Текст научной статьи О запрете на совпадение имен у айнов по материалам актов XIX века
Изучение истории и культуры айнов вызывает особенный интерес ученых всего мира. В комплекс исследовательских задач входит, в частности, установление генезиса айнов и родственных им этносов, возможных путей и причин миграции. Определенные элементы айнской культуры находят типологические соответствия в культурах народов Юго-Восточной Азии, островов Тихого океана, северо-востока Азии и даже северо-запада Америки. Данные исторической лингвистики, в особенности терминология родства, указывают на этнические связи в древности тунгусоязычного и айнского населения [Спеваковский, 1983].
В рамках данной статьи в сравнительном плане рассматривается запрет на совпадение (дублирование) имен в айнской культуре. Одним из универсальных для первобытного сознания явлений обычно считается вера в реинкарнацию души умершего предка в потомке и связанный с этим обычай передавать новорожденному имя умершего [Дзибель, 2001. С. 259]. Однако у айнов, а также у приполярных и таежных народов Восточной Сибири - эвенков-орочонов, эвенов, нивхов, чукчей, подобная практика отсутствует. Еще английский миссионер Дж. Бэчелор отмечал, что айны избегали нарекать детей именами покойных родственников или жителей поселения, в результате чего имена айнов в семье и в поселке, а нередко и на более обширной территории, являлись уникальными [Batchelor, 1926]. Он также указывал, что имена у айнов самые разнообразные, отражают характер, внешность, поэтому сложно представить двух человек с одинаковыми именами [Batchelor, 1892].
Ограниченное число имен, которые можно давать детям, и изгнание или убийство престарелых носителей этих имен, наряду с полигинией и полиандрией, считаются способами регу-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 4: Востоковедение © Е. Л. Фролова, 2013
лирования численности населения для сохранения хрупкого экологического равновесия у реликтовых этносов. Сходные черты в обрядности айнов, нивхов и тунгусо-маньчжуров обусловлены общностью территории проживания и теми климатическими условиями, к которым этносы адаптировались за их многовековую историю. Это, в свою очередь, привело к однотипной хозяйственно-экономической деятельности, тесным межэтническим контактам, что не могло не сказаться на материальной и духовной культурах народов [Осипова, 2006. С. 34].
Например, в описании верований эвенков-орочонов конца XIX – начала XX в. читаем: «…младенцу шаман нарекает имя, но штоб в той семье было ново» (цит. по: [Бурыкин, 2000]). У эвенов, родственного эвенкам этноса, по сей день бытует запрет давать детям имена, которые носят их старшие родственники, если те еще живы. У чукчей, сохранявших традиционные имена до 1930–1940-х гг., отмечен обычай давать ребенку имя, представляющее собой видоизмененное имя кого-либо из живущих родственников, но не тождественное ему. У нивхов, по неписаному закону, каждый род имел свой свод личных имен, которым не мог пользоваться другой род [Штернберг, 1933. С. 337].
Мы попытаемся ответить на три вопроса: 1) на каких представлениях о мире базировались запреты на дублирование имен у айнов; 2) как строго эти запреты соблюдались; 3) на какую территорию распространялись?
Имя в мифологическом сознании неразрывно связывалось с личностью, благодаря чему существовала возможность оказать на нее магическое воздействие. По утверждению Дж. Фрэзера, «многие из первобытных людей считали имя существенной частью самих себя и прилагали немало усилий, чтобы утаить свои истинные имена и тем самым обезопаситься от злоумышленников» [1980. С. 277]. С верой в силу слова и заклинания связан распространенный во многих культурах Востока запрет на произнесение имени. Подобные запреты действовали и у айнов. Айны избегали называть собственными именами героев, почитаемых наравне с богами родовых вождей, в особенности умерших. В преданиях они постоянно именуются по названию соответствующей местности: муж из Отасута, женщина из Синутап-ки и т. п. Нельзя было произносить вслух подлинное название животного, например, медведя. В силу этого запрета в айнском языке была развита синонимия: одни слова относились к высокому стилю и области сакрального, другие – к будничному, разговорному языку 1.
Айны, как и другие тунгусоязычные народы, полагали, что личное имя неразрывно связано с душой. Можно предположить, что в их сознании существовала заданная оппозиция «одно имя = одна душа». Косвенно свидетельствует об этом отношение к рожденной двойне и к новорожденным, оставшимся без матери. Например, у эвенков, если роженица умирала, а ребенок оставался живым, то другая кормящая женщина не могла его взять, так как считалось, что у одновременно вскормленных одной женщиной младенцев будет одна душа на двоих (но два имени), что приведет к несчастьям. Рождение двойни считалось плохим признаком. Подразумевалось, что близнецы и их мать соприкоснулись со сверхъестественной силой (чаще всего духами животных-предков) и стали ее носителями. У нивхов Сахалина и Приамурья мать близнецов хоронили в медвежьей клетке, а о самих близнецах говорили как о «зверях». Тем не менее у орочей, удэгейцев и ульчей, а также некоторых других коренных народов региона Амура и Сахалина рождение близнецов считалось хорошим признаком и связывалось с деятельностью добрых духов 2.
А. Б. Спеваковский отмечал, что у айнов душа считалась бессмертной, и она не исчезала бесследно, но появлялась снова в другом теле. Дед, например, возрождался, по айнским представлениям, во внуке. Это нашло отражение в системе терминов родства айнов [1988. С. 54]. Поскольку имянаречение, как правило, осуществлял шаман, «можно предполагать пережиточную форму обычая установления того, кто именно из умерших родственников возвратился в мир живых людей в облике данного младенца, вытекающего из характерных для тунгусских народов представлений о реинкарнации» [Бурыкин, 2000]. Однако айны соблюдали запрет на дублирование имен не только ныне живущих, но и покойных родственников и жителей поселения.
Сходные запреты отмечаются и в традиционном японском обществе. Наиболее известным из них был запрет дублировать имена живущих родственников, а также близких знакомых семьи и соседей. Что касается покойных членов семьи, здесь тоже действовали запреты. Поэтому именование (полное повторение имени) в честь умерших родственников, отца или деда, в Японии практически не встречается. Особенно силен запрет в отношении детей, умерших во младенчестве: их имена подлежат забвению в данной семье [Фролова, 2008. С. 76].
В космологическую модель мира айнов входила страна мертвых, которая размещалась внизу, под миром живущих. Айны местности Сару, например, полагали, что страна мертвых лежит прямо под поверхностью их родной долины. Религиозные воззрения о самостоятельной жизни души, о мире мертвых находили воплощение в похоронно-поминальной обрядности. Смерть человека означала только телесную смерть, а душа, подвешенная внутри тела, представлялась в образе маленькой птички, способной улететь из мира живых в мир мертвых. Необходимо было строгое соблюдение похоронной обрядности, чтобы душа не задержалась и не превратилась в блуждающий призрак.
Поскольку основой религиозных взглядов айнов являлся анимизм, выражавшийся в признании наличия души практически у всех объектов органического и неорганического мира, а также явлений природы в целом, то при похоронах одежду, утварь и прочие предметы надлежало разломать на могиле с тем, чтобы души вещей, освобожденные от материальной оболочки, могли сопровождать покойного в загробный мир. Таким образом, все, что принадлежало покойному, включая имя, отныне переходило в мир потусторонний и не могло использоваться среди живых людей.
Айны полагали, что после смерти они будут жить подобно тому, как жили в этом мире, т. е. жившие в одном доме, в одном поселке люди и в загробном мире будут продолжать жить в этом же обществе [Batchelor, 1892; Ямада, 1994; Кубодзи, 1956]. Поскольку данных о существовании посмертных имен у айнов не имеется, логично предположить, что у обитателей загробного мира остаются прижизненные имена. Совпадение имен жителей двух миров, несомненно, приведет к несчастью. Поэтому принцип запрета на дублирование имен распространялся не только на ныне живущих, но и на умерших родственников и соседей по поселению. Тщательно соблюдая различные запреты, айны еще при жизни готовились к переходу в иной мир.
Для определения территории и степени действия запрета на дублирование имен мы будем опираться на архивные исследования, проведенные японским историком Эндо Масатоси на материале актов XIX в. Для анализа были привлечены следующие документы: «Подушные списки деревень и поселков Итурупа» 3 (хранятся в Историческом архиве Токийского университета); «Документы Мацуура Такэсиро» 4 (Исторический архив Государственного института японской литературы); «Документы дома Нисикава» 5 (архив музея г. Котару); «Документы селения Мицуиси» 6 (архив Библиотеки Хоккайдо) и др.
Сложность исследования заключалась в том, что в XIX в. айнский этнос подвергся политике насильственной ассимиляции и сегрегации, проводимой японцами. В 1624–1643 гг. был создан японский колониальный режим клана Мацумаэ и земли Эдзо (совр. Хоккайдо, Сахалин и о-ва Курильской гряды) были разделены на территории, где селились японцы (южная оконечность п-ова Ватарисима) и айнские поселения. В 1789 г. статус айнов сменился с вольных поселенцев на подневольных рабочих. С 1799 г. земли Эдзо во второй раз перешли в подчинение бакуфу и начались мероприятия по ассимиляции (японизации) айнских обря- дов и уклада жизни. В частности, в ходе этих мероприятий айнские имена были насильственно заменены на японские. Однако айны, проживающие в отдаленных поселениях (басё) – Аккэси, Итуруп, юго-запад Сахалина, до 1850-х гг. сохраняли свой уклад жизни.
Перед исследователем в первую очередь стояла задача разделить имена, записанные в архивных документах, на японские и айнские, затем сравнить отдельно айнские и японские имена членов семей и жителей одного поселения для установления процента совпадений. Документы позволили осуществить полномасштабное исследование в нескольких регионах на разных отрезках времени: юго-западная оконечность Сахалина, Итуруп (1800), Сидзунай (1858), Такасима, Аккэси, Нэмуро, Момбэцу (1848–1858).
В результате анализа имен членов 942 семей (дворов) ни одного совпадения айнских имен выявлено не было, из чего следует, что запрет на дублирование имен безусловно соблюдался в айнском обществе на протяжении всего XIX в. [Эндо, 2004б. С. 30]. Даже насильственная замена айнских имен на японские, которая, например, составила в 1800 г. на Итурупе в среднем 18,6 %, а в 1801 г. – 35,4 %, не привела к появлению большого количества одинаковых имен. Документы показали, что на Итурупе японские имена получили преимущественно дети младше 10 лет. На всей территории Итурупа обнаружено 32 примера совпадения имен (0,3 %, японских имен 29), из них одно имя повторяется в пределах одного поселка, остальные разбросаны по разным поселкам. Имена не повторяются в соседних и близких поселках, повторы отмечены только в тех, что находятся на значительном удалении. Изучение показало, что эти поселки заселены большей частью японцами и являются местами, где были созданы базы для японской администрации. С распространением японизации возрастало и количество совпадений имен. В 1801 г. по Итурупу их процент составлял 2,8 %, это японские имена [Эндо, 2004a. С. 421–422].
С 1855 г. земли Эдзо вновь попали под юрисдикцию правительства, и процесс ассимиляции продолжился с новой силой. В 1856–1864 гг. японизация имен отмечается на следующем уровне: Нэмуро – 69,3 %, Мицуиси – 37, Сидзунай – 35, Аккэси – 27,5, Такасима – 22,4, Момбэцу – 17,9 %. Однако процент совпадений имен (японских) по-прежнему чрезвычайно низок – не поднимается выше 1 %. Совпадений имен (айнских либо японских) в пределах одной семьи либо в пределах поселения не обнаружено, в пределах же более крупных территорий совпадения крайне незначительны: на Итурупе в целом обнаружено 11 примеров совпадения имен (1 %), в остальных местах – от 0,3 до 1,6 % [Эндо, 2004б. С. 30].
Для поселков с сезонной миграцией и обычаем брать прислугу в дом это очень низкий процент. В ХIХ в. основным занятием айнов была рыбная ловля, промысловыми сезонами были весна (нерест сельди) и осень (массовый ход лосося). С наступлением холодов начинался сезон охоты, мужчины уходили в горы либо в прибрежные районы, где занимались морским зверобойным промыслом [Горбачева, 2001. С. 85]. Таким образом, весной айны мигрировали с зимних поселений в летние, возвращаясь назад поздней осенью. Сезонный характер занятий обуславливал наличие как летних, так и зимних поселений и стойбищ. При постоянной миграции семей между поселками происходило сезонное смешивание жителей разных поселений, которые могли совместно использовать летние или зимние стойбища для заготовки пропитания. Кроме того, браки, разводы, усыновления, переселения на новое место жительства отдельных людей или целых семей обеспечивали гибкость айнского социума, значительная часть которого всегда была связана кровнородственными и брачными отношениями. Ядро поселка ( сюраку ) составлял семейный клан с отсчетом родства по линии мужских предков, имеющий также, как правило, обширные родственные связи по материнской линии или по браку, которые обнаруживались во многих, нередко дальних стойбищах.
Несмотря на перемещения айнов в другие семьи и поселки, совпадения имен в одной семье ни разу не зафиксировано, что заставляет предположить распространение действия запрета на дублирование имен и на новых, пришлых членов семьи. Списки показывают, что в значительной части зажиточных семей под одной крышей проживают, в том числе, некровные родственники ( утарэ ): прислуга, друзья, гости, остановившиеся на длительный срок, помощники-приживалы, недееспособные и члены их семей. На юго-западе Сахалина в среднем на семью ( иэ ) в 7,2 чел. приходилось 3,5 чел. приживал- утарэ всех возрастов (от 5
до 80 лет), максимум до 14 чел., наибольшее количество семей с двумя утарэ . Например, список средней семьи из 4-х человек из поселка Сиёёмауси, 1828 г., включает основных членов семьи: это глава семьи (38 лет), жена (35 лет), незамужняя дочь (16 лет) и сын (10 лет), с ними проживают служанка (20 лет) и ее сын (3 года), вторая служанка (40 лет), итого получается семья из 7 человек. Степень родственных отношений с прислугой не указана, возможно, это чужие люди либо кто-то из дальней родни [Эндо, 2004б. С. 30].
Несмотря на отсутствие кровного родства, совпадения имен в вышеуказанных регионах носят единичный характер. Сопоставление 37 имен из списка покойных айнов о. Итуруп за 1789 г. со списками документов различных регионов 1800, 1803, 1812, 1822 и 1828 г. не выявило ни одного совпадения имени не только на Итурупе, но и во всех исследуемых регионах. Вероятно, перед тем как переехать или взять кого-то в дом, запрашивали информацию об именах в этом доме и поселке. Следовательно, должны были существовать источники информации об именах членов семей, жителей поселков и всего региона в целом.
Каким образом передавалась столь обширная информация в бесписьменном обществе? Точный ответ на этот вопрос – задача будущих исследований, но, несомненно, для этого использовались обычные методы, свойственные бесписьменному обществу (организация информации, отбор ее носителей, регламентация способов передачи и принятие мер против искажения).
Жизнью территориально-родственной общины (поселения) у айнов руководил выборный совет старейшин. Совет отвечал за внутренние дела и за взаимоотношения с другими общинами. В совет старейшин избирались люди пожилого возраста, которые были самыми почитаемыми членами айнского общества, исполняли функции хранителей традиций и устного фольклора.
По свидетельству К. Киндаити, один из сказителей «знал генеалогию нескольких десятков семей главных вождей племен восточного Эдзо до такой степени, что мог составить огромное генеалогическое древо вплоть до наложниц и детей от них» [1940. С.407].
Важную роль, видимо, играли и родовые символы, представляющие собой различного рода условные рисунки, узоры, знаки и их сочетания. Некоторые символы, по мнению Х. Ватанабэ, «обнаруживают намерение айнов представить животное или, точнее, часть животного... отпечаток лапы бурого медведя или птицы, плавник дельфина...» [1972. С. 49], т. е. определяют тотемическое родство. Родовые символы передавались по мужской (от отца к сыну) и по женской линии (от матери к дочери), у мужчин они ставились на оружии и других предметах, а у женщин – на набедренных поясах. Эти символы ( экаси итокпа ) несли необходимую информацию о родовых связях, в частности, играли важную роль в определении возможности / невозможности брачных союзов, поскольку айны заключали браки с соблюдением норм экзогамии.
Таким образом, уникальность личных имен была особенностью культуры айнов в начале 1800-х гг. Обычай не давать детям имена, тождественные именам родственников и людей, живущих в одном поселении, а также именам покойных, позволял айнам, не имевшим фамилий и прозвищ, избегать недопонимания при упоминании имен. Запрету на совпадение имен подчинялись не только имена, данные впервые после рождения, но и взятые при последующих переименованиях. Перемена имени у айнов практиковалась при возрастных инициациях, часто это было связано со свадьбой, смертью супруга, разводом, приходом в чужую семью.
Запрет на совпадение имен практически обеспечивал уникальность личных имен, а значит, защищал и выделял личность внутри группы. Он распространялся не только на отдельную семью или поселение, но и на более обширную территорию. Эти территории (объединения поселков басё) мыслились как продолжение семьи иэ и поселения сюраку. Для соблюдения запрета при наречении или перемене имени была необходима полная информация об именах всех живущих членов семьи и проживающих в поселке соседей, а также именах всех умерших родственников. Более того, айны должны были обмениваться информацией о личных именах как внутри самого поселка, так и между поселками, и шире – на всей территории расселения. Строгое соблюдение запрета на дублирование имен прослеживается по всей территории земель Эдзо, в Такасима, Сидзунай, Нэморо, и проч. Для айнов, не имевших пись- менности, это правило было частью культуры и играло важную роль в социальной организации.
ON THE PROHIBITION OF NAME MATCHINGS AMONG THE AINU BASED ON THE MATERIALS OF XIX CENTURY ACTS
Список литературы О запрете на совпадение имен у айнов по материалам актов XIX века
- Бурыкин А. А. Шаманство эвенков глазами русских наблюдателей XVIII века // Сибирская Заимка. История Сибири в научных публикациях. 2000. № 8. URL: http://zaimka.ru/ religion/burykin4.shtml.
- Горбачева В. В., Карапетова И. А., Сем Т. Ю. Островные люди - айны // Восточная коллекция. 2001. № 4 (7). С. 82-88.
- Дзибель Г. В. Алгебра родства: Родство. Cистемы родства. Системы терминов родства // Феномен родства. Пролегомены к иденетической теории. СПб.: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, 2001. 470 с.
- Осипова М. В. Обычаи и обряды айнов в системе культурного взаимодействия с аборигенами Нижнего Амура и о. Сахалин: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 2006. 37 с.
- Спеваковский А. Б. Оборотни, демоны и божества айнов. Религиозные воззрения в традиционном айнском обществе. М.: Наука, 1988. 204 с.
- Спеваковский А. Б. Система терминов родства айнов бассейна реки Сару // Взаимосвязь социальных и этнических факторов в современной и традиционной культуре. М., 1983. С. 114-123.
- Фролова Е. Л. Перемена имени как средство влияния на судьбу в традиционном японском обществе // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2008. Т. 7, вып. 4: Востоковедение. С. 71-77.
- Фрэзер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. 831 с.
- Штернберг Л. Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Статьи и материалы. Хабаровск, 1933. 337 с.
- Batchelor Jh. An Ainu-English-Japanese Dictionary. Tokyo; L.: Kobunkan, 1926. 587 p.
- Batchelor Jh. The Аinu of Japan. The Religion, Superstitions, and General History of the Hairy Aborigens of Japan. L.: Religious society, 1892. 336 р.
- Ватанабэ Хитоси. Айну бунка-но сэйрицу - миндзоку, рэкиси, кокосёгаку-но го:рю:тэн [渡辺仁。アイヌ文化の成立-民族・歴史・考古諸学の合流点。考古学雑誌]. Становление культуры айнов: по данным этнографии, истории, археологии // Археологический журнал. 1972. № 58 (3). С. 47-64.
- Киндаити Кёсукэ. Айну-но кэнкю: [金田一京助. アイヌの研究。東京:八洲書房]. Исследования по айнам. Токио: Хассюсёбо, 1940. 478 с.
- Кубодзи Сорахико. Мэймэй. Айнубунка ходзон тайсаку кё:гикайхэн [久保寺逸彦。命名。アイヌ文化保存対策協議会編『アイヌ民族誌』第 1法規]. Имянаречение // Этнография айнов. Журнал Совета по сохранению культурного наследия айнов. Закон № 1. Токио, 1969. С. 472-474.
- Кубодзи Сорахико. Хоккайдо: айну-но со:сэй - сару айну-о тю:син тоситэ [久保寺逸彦。北海道アイヌの葬制-沙流アイヌを中心として。民俗学研究]. Погребальная обрядность айнов Хоккайдо. На материале айнов местности Сару // Труды по этнографии. 1956. № 20. С. 1-35, 156-203.
- Эндо Масатоси. XIX сэйки-но айну сякай-ни окэру вамэйка-но тэнкай катэй [遠藤匡俊. 19世紀のアイヌ社会における和名化の展開過程. 地学雑誌]. Японизация айнских имен в XIX в. // Географический журнал. 2004а. Т. 113, вып. 3. С. 420-424.
- Эндо Масатоси. 1800 нэндай сёки айну-но сякай ко:дзо: то мэймэй кисоку-но ку:кантэки тэкиё: ханьи [遠藤匡俊. 1800 年代初期アイヌの社会構造と命名規則の空間的適用範囲. 地理学評論]. О структуре айнского общества и правилах именования у айну в начале 1800-х гг. // Труды по географии. 2004б. № 77-1. С. 19-39.
- Ямада Такако. Айну-но сэкайкан - [котоба] кара ёму сидзэн то утю: [山田孝子. アイヌの世界観 -『ことば』から読む自然と宇宙. 東京:講談社]. Мировоззрение айнов - природа и вселенная через призму языка. Токио: Коданся, 1994. 278 с.