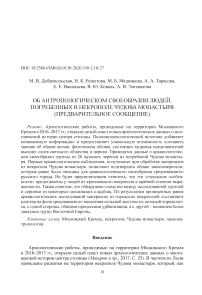Об антропологическом своеобразии людей, погребенных в некрополе Чудова монастыря (предварительное сообщение)
Автор: Добровольская М.В., Решетова И.К., Медникова М.Б., Тарасова А.А., Васильева Е.Е., Коваль В.Ю., Энговатова А.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Новые открытия
Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.
Бесплатный доступ
Археологические работы, проводимые на территории Московского Кремля в 2016-2017 гг., открыли целый пласт новых археологических данных о многовековой истории центра столицы. Палеоантропологический источник добавляет независимую информацию и предоставляет уникальную возможность составить мнение об образе жизни, физическом облике, состоянии здоровья представителей высших слоев светского общества и церкви. Приводятся данные о краниологическом своеобразии группы из 26 мужских черепов из погребений Чудова монастыря. Первые краниологические наблюдения, полученные при обработке материалов из некрополя Чудова монастыря, позволяют подтвердить общие закономерности,которые ранее были описаны для краниологического своеобразия средневекового русского города. Не будет преувеличением отметить, что эти «городские особенности» представлены у людей из кремлевского некрополя в крайней степени выраженности. Также отметим, что обнаружено сходство между исследованной группой и сериями из некоторых московских кладбищ. По результатам проведенных ранее краниологических исследований материалы из городских некрополей составляют кластер на фоне средневекового населения сельской местности, который определялся, с одной стороны, общими процессами урбанизации, а с другой - влиянием более западных групп Восточной Европы.
Московский кремль, некрополь чудова монастыря, палеоантропология
Короткий адрес: https://sciup.org/143163999
IDR: 143163999
Текст научной статьи Об антропологическом своеобразии людей, погребенных в некрополе Чудова монастыря (предварительное сообщение)
Археологические работы, проводимые на территории Московского Кремля в 2016–2017 гг., открыли целый пласт новых археологических данных о многовековой истории центра столицы (Макаров и др., 2017. С. 25). В частности, были проведены раскопки на территории некрополя Чудова монастыря, который, как известно, был местом упокоения многих видных деятелей Русской православной церкви и Российского государства. Так, среди блоков, поддерживающих колонны подвальной части здания, построенного в 1930 г. (известного под обозначением 14-го корпуса административных зданий Кремля), была обнаружена каменная надгробная плита погибшего на Ливонской войне Василия Глебовича Салтыкова. Это прямое письменное свидетельство захоронения представителя боярства, имевшего заслуги перед отечеством.
В настоящее время работы с архивными материалами, которые помогут более предметно судить о людях, погребенных на одном из наиболее почитаемых кладбищ столицы, активно ведутся. Однако, кроме письменных источников, в археологических исследованиях возможно обращаться к другому независимому источнику – скелетным останкам людей.
Особенности образа жизни оказывают влияние на строение скелета ( Козловская , 1998. С. 10). Условия, в которых проходили детство и отрочество, во многом определяют параметры физического развития индивида. Поэтому в обществах с ярко выраженными социальными стратами, различающимися по качеству жизни, такие генерализованные показатели, как длина тела, общие размеры и показатели физического развития, могут эффективно информировать о принадлежности индивидов к определенным социальным группировкам. Возрастные постдефинитивные (т. е. те, которые начали развиваться после процессов роста и созревания) изменения у людей также во многом становятся следствием образа жизни, характера физических нагрузок, режима питания и др. Инфекционные заболевания зачастую информируют об активных контактах с представителями тех социумов и территорий, где данные заболевания получили широкое распространение ( Бужилова , 2005. С. 255). Травмы, уже залеченные и приведшие к смерти человека, также могут быть отмечены при осмотре скелетных останков. Эта информация может быть использована для реконструкции социального своеобразия людей, погребенных в некрополе. Таковы, в частности, были основные методологические подходы, которые применялись нашей исследовательской группой при исследовании материалов из погребений Чудова монастыря.
В значительной мере полнота сведений, получаемых при описании, измерениях, приборно-аналитическом изучении останков, зависит от степени их сохранности. При работе на участках кладбища были отмечены различные варианты сохранности. В наиболее полном виде они были представлены в непотревоженных каменных саркофагах, частично заполненных грунтом. Большая часть костяков дошла до нас в состоянии частичной сохранности. Значительный урон был нанесен кладбищу при строительстве административного здания в 1930 г. Так, черепа из некоторых захоронений были перемещены или исчезли вовсе.
Плотное планиграфическое и стратиграфическое расположение могил указывает на ценность каждого участка этого почитаемого кладбища, существовавшего на протяжении не менее чем пяти веков. В пространствах между могильными ямами зачастую встречались разрозненные скелетные останки, которые, вероятно, перемещались в процессе более поздних захоронений, когда память о ранних погребениях была уже утрачена.
Тем не менее полученный при раскопках материал предоставляет уникальную возможность составить мнение об образе жизни, физическом облике, состоянии здоровья представителей высших слоев светского общества и церкви.
Методы и материалы
Классические методы палеоантропологии связаны с использованием морфологических, прежде всего краниометрических, программ для описания особенности строения черепа ( Алексеев, Дебец, 1964). Этот методологический подход не нацелен на изучение индивида, а характеризует группу, используя статистические инструменты. В качестве основополагающего методологического принципа краниологического исследования традиционно понимание серии черепов как группы, объединение которых обусловлено некими факторами. Исходя из знания того, чем обусловлено объединение черепов в конкретную серию, и происходит анализ полученной стандартной морфологической информации. В данном случае мы имеем сложную картину хронологически разобщенных индивидов, единым для которых остается представление об их высоком социальном статусе. Обосновано ли формирование такой группы? Исходя из практики палеоантропологических работ – да. Более доказательно можно получить ответ на этот вопрос, проанализировав результаты этого краткого краниологического исследования.
К настоящему времени получена краниологическая серия из 26 мужских черепов, происходящих из погребений на различных участках некрополя, нескольких типов погребений (в гробах, колодах и каменных саркофагах). Формирование серии на основе памятника с широкими хронологическими рамками – общая для палеоантропологии практика, поэтому наша группа не является уникальной.
Результаты
Проведенные стандартные измерения приведены в табл. 1. Они позволяют охарактеризовать особенности выборки следующим образом:
-
1. Мозговой отдел черепа отличают крупные размеры по признакам продольного, поперечного и высотного диаметров. Длина основания черепа также большая. Наименьшая и наибольшая ширина лба находится в границах рубрикации «большой». Черепной указатель в группе составляет 77,4 и соответствует мезокрании.
-
2. Лицевой отдел черепа характеризуется значительным скуловым диаметром, а также большими значениями верхней и средней ширины лица. По величине верхней высоты лица черепа относятся к высоколицым, орбиты среднеширокие и средние по высоте. Нос – крупный как по высоте, так и по ширине. Выступание носа значительное. Также в категории крупных попадают размеры альвеолярной дуги.
-
3. В самом общем виде краниологический облик характеризуется набором признаков, типичных для европеоидов в северо-западных вариантах групп восточноевропейского населения.
Таблица 1. Средние значения краниометрических признаков в серии мужских черепов из погребений на территории некрополя Чудова монастыря
|
Признак по Мартину |
X (мм) |
S |
|
1 |
186 |
6,2 |
|
8 |
144 |
5,8 |
|
17 |
136,8 |
3,7 |
|
5 |
105,5 |
6,1 |
|
9 |
100,2 |
7,5 |
|
10 |
122,2 |
7,2 |
|
12 |
113 |
5,2 |
|
45 |
137,6 |
7,4 |
|
40 |
100,3 |
4,3 |
|
43 |
107,2 |
3,2 |
|
48 |
74,7 |
7,6 |
|
55 |
52,8 |
5,9 |
|
54 |
26,5 |
1,4 |
|
51 |
42,8 |
1,5 |
|
52 |
54,5 |
1,9 |
|
Дакриальная хорда |
26,2 |
3,2 |
|
Дакриальная высота |
14,6 |
1,7 |
|
Симотическая хорда |
9,1 |
2,0 |
|
Симотическая высота |
4,3 |
1,4 |
|
Zm-Zm |
99,7 |
5,4 |
|
Высота над Zm |
20,3 |
3,9 |
|
Fmo-Fmo |
100,4 |
2,9 |
|
Высота над Fmo |
17,9 |
2,5 |
Обращают на себя внимание крайне крупные размеры черепов, частые случаи хорошей сохранности зубной системы у людей старших возрастных групп (старше 50 лет). При сравнении с сельскими средневековыми и позднесредневековыми группами, городскими выборками древнерусского времени, а также городскими группами XVI–XVIII вв. черепа из погребений Чудова монастыря занимают обособленное место, обусловленное общими крупными их размерами. В связи с этим хотелось бы упомянуть, что для многих индивидов мужского пола были отмечены высокие показатели физического развития, чему посвящена отдельная публикация среди подготовленных к настоящему времени по результатам исследований скелетных останков. В частности, встречены мужские скелеты, для которых характерны высокие показатели развития костного рельефа, связанного с мускульными нагрузками на пояс верхних конечностей. У них высокая частота встречаемости множественных межпозвонковых грыж (рис. 1), а также хорошо сформированных фасеток Аллена на шейке бедренных костей (рис. 2), встречаются боевые травмы (рис. 3). Все это в целом указывает


Рис. 1. Погребение 90. Множественные межпозвонковые грыжи

на то, что верховая езда могла быть постоянным занятием этих людей с периода отрочества.
Подчеркнем, что высокие показатели физического развития в целом предполагают высокое качество жизни в детском и отроческом возрасте, а также практику физической активности с детских и отроческих лет. Соблюдение всех этих параметров характерно для семей социальной элиты средневековья, когда понятия «аристократ» и «воин» были по большей части синонимами. Все это дает веские основания видеть в погребенных из Чудова монастыря прежде всего представителей русской аристократии. Монашеский обряд погребения в данном случае является свидетельством не того, что их жизнь проходила в рамках монастырских уставов, а того, что перед смертью они могли быть пострижены в монахи, чтобы иметь право быть погребенными в этой земле.

Рис. 2. Погребение 107. Фасетка Аллена

Рис. 3. Зажившая травма лобной кости
Итак, какую информацию хотим мы получить, характеризуя краниологические особенности этой группы? Вероятно, наиболее важными следует рассматривать следующие вопросы:
-
1. Возможно ли связать краниологическую специфику группы с выходцами из определенных регионов страны или группа сугубо смешанного происхождения?
-
2. Можно ли судить о том, что эта группа демонстрирует преимущественные связи с населением Москвы или значительно отличается от позднесредневековых групп из московских некрополей?
-
3. Опираясь на исторические данные, мы a priori считаем, что эта группа представляет социальную элиту. Можно ли считать, что краниологические характеристики из неких условных кластеров «элита» и «городское население» во многом близки или, наоборот, кластер «элита» демонстрирует свою уникальность? Этот вопрос, вероятно, важен, так как позволяет задумываться и подбирать доказательную базу к важной исторической проблеме о специфике формирования позднесредневековой российской элиты на основании независимого источника.
В самом общем виде можно предположить несколько формальных схем, которые не имеют ничего общего с исторической реальностью, но позволят нам интерпретировать наши данные, то есть являются абстрактным логическим допущением.
Схема 1. Формирование элиты происходит на базе небольшой группы, характеризующейся определенными краниологическими чертами, которые передаются из поколения в поколение, как это в крайнем своем проявлении складывается в династических поколениях.
Схема 2. Состав элиты никак не связан с обособленностью малой группы, а потому можно ожидать неких средних значений по большинству признаков. Однако своеобразие этой группы будет проявляться в показателях качества жизни.
Схема. 3. Элита формируется в среде крупных городов, прежде всего – столицы. В этом случае полученные нами результаты будут близки к характеристикам городских, и прежде всего московских, групп.
Судя по полученным нами данным, первые две схемы не имеют ничего общего с исторической реальностью, а третья схема может быть взята как рабочая гипотеза, которая требует более внимательного исследования.
Отметим, что вопрос о природе антропологических различий между краниологическими особенностями средневекового русского населения города и деревни имеет значительную историю. Своеобразие городских выборок было причиной того, что основные палеоантропологические материалы для изучения краниологического полиморфизма населения Руси и России позднего средневековья подбирались из сельских погребений. Еще Т. А. Трофимовой были выявлены различия городского и сельского населения на примере Москвы и Московской губернии ( Трофимова , 1941). Этой проблеме посвящена отдельная глава в основополагающей монографии Т. И. Алексеевой «Этногенез восточных славян по данным антропологии» ( Алексеева , 1973. С. 131). Автор приходит к выводу о существовании определенной направленности отличий городского и сельского населения, которые не связаны с антропологическим типом и происхождением, а обусловлены особенностями жизни в урбанизированной среде. Основными проявлениями этой средневековой урбанизации становятся такие признаки, как общее укрупнение размеров черепа и посткраниального скелета, развитие широтных размеров мозгового отдела черепа и лица.
Масштабное обобщение данных краниологии, основанное на практически всех доступных материалах XV–XVIII вв., опубликовано недавно Д. С. Коно-пелькиным и Н. Н. Гончаровой (2016. С. 75). Авторы, обобщая данные по 45 городским сериям, подытоживают свое исследование следующим заключением: «Городские выборки имеют более крупные размеры мозговой части черепа, более широкое лицо на уровне скул, уменьшение ширины орбиты, большие значения углов горизонтальной профилировки лица. Эти процессы отражают как воздействие процессов урбанизации…» (Там же. С. 84).
В работе о краниологическом своеобразии городских и сельских выборок XVI–XVIII вв. также рассматривается не только возможное влияние урбанизации, как общего для всей территории процесса, но и предположительное влияние определенных регионов. Авторы приходят к выводу о возможном факторе «западного широколицего населения регионов Восточной Европы» (Там же), формирующем, в некоторой степени, городское население позднесредневекового времени. Исключением остаются города Поволжья, в которых авторами просматривается существенный финно-угорский компонент.
Любопытно отметить, что на полигоне, отражающем соотношение скуловой ширины и черепного указателя, большинство групп, происходящих из московских кладбищ, объединяются в зоне широколицых, мезокефальных значений. Это материалы из кладбища у церкви Святителя Николая на Берсе-ньевке, некрополь у церкви Феодора Студита у Никитских ворот, некрополь собора Василия Блаженного. Группа черепов из Чудова монастыря проявляет наибольшее сходство с краниологическими группами из московских кладбищ. В целом результаты кластеризации городских групп показали достаточно сложную картину разнообразия городского населения, далекую от отражения географических расстояний. Поэтому первые данные, характеризующие людей из некрополя Чудова монастыря, следует рассматривать не как географически четко приуроченную группу, а как выборку, проявляющую сходство с населением городов центра и севера европейской части России.
Заключение
Таким образом, по соотношению основных параметров мозгового отдела черепа и ширине лица – то есть признакам, которые, по мнению Т. И. Алексеевой, наиболее эффективно разделяют население города и деревни в древнерусское и более позднее время, – люди из захоронений Чудова монастыря представляют собой «городской» краниологический вариант.
Первые краниологические наблюдения, полученные при обработке материалов из некрополя Чудова монастыря, позволяют подтвердить общие закономерности, которые ранее были описаны для краниологического своеобразия средневекового русского города. Не будет преувеличением отметить, что эти «городские особенности» представлены у людей из кремлевского некрополя в крайней степени выраженности. Также отметим, что обнаружено сходство между исследованной группой и сериями из некоторых московских кладбищ. По результатам проведенных ранее краниологических исследований, материалы из городских некрополей составляют кластер на фоне средневекового населения сельской местности, который определялся, с одной стороны, общими процессами урбанизации, а с другой – влиянием более западных групп Восточной Европы.
Полученные нами результаты не противоречат этому выводу. Хотелось бы лишь обратить внимание на то, что значительная высота лица указывает на северный вектор в этом общем западном направлении. Первые предварительные результаты исследований указывают на значительные перспективы, которые открывают исследования антропологических материалов из некрополя Чудова монастыря.
Список литературы Об антропологическом своеобразии людей, погребенных в некрополе Чудова монастыря (предварительное сообщение)
- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.
- Алексеева Т. И., 1973. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М.: Изд-во МГУ. 330 с.
- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens: история болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с.
- Козловская М. В., 1998. Историческая экология человека. Методика биологических исследований. 128 с.
- Конопелькин Д. Г, Гончарова Н. Н., 2016. СРАвнительный кРАниологический анализ восточноевропейских городских и сельских выборок XVI-XVIII вв.//РА. № 2. С. 75-87.
- Макаров Н. А., Энговатова А. В., Коваль В. Ю., 2017. Археологические исследования в восточной части Московского Кремля в 2014-2016 г.//КСИА. Вып. 246. С. 7-27.
- Трофимова Т. А., 1941. Черепа из Никольского кладбища. (К вопросу об изменчивости типа во времени)//Уч. зап. МГУ. Вып. 63. Москва. С. 211-234.