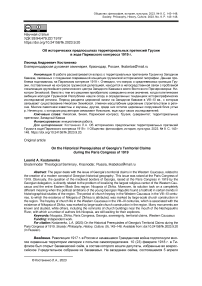Об исторических предпосылках территориальных претензий Грузии в ходе Парижского конгресса 1919 г
Автор: Костаненко Л.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматривается вопрос о территориальных претензиях Грузии на Западном Кавказе, связанных с созданием современной концепции грузинской исторической географии. Данная проблема поднималась на Парижском конгрессе 1919 г. Очевидно, что вопрос о средневековых границах Грузии, поставленный на конгрессе грузинской делегацией, находится в непосредственной связи с проблемой локализации крупнейшего религиозного центра Западного Кавказа и всего Восточного Причерноморья: Никопсии Зихийской. Вместе с тем его решение приобретало совершенно иное значение, когда политические амбиции молодой Грузинской Республики нашли опору в определенных тенденциях историографических исследований региона. Период расцвета церковной жизни на Западном Кавказе в VIII-XI вв., с которым связывают существование Никопсии Зихийской, отмечен масштабным церковным строительством в регионе. Многие памятники известны и изучены, другие, среди них остатки церковных сооружений близ устья р. Нечепсухо, с которыми ряд авторов связывают Никопсию, еще ждут своих исследователей.
Никопсия, зихия, парижский конгресс, грузия, суверенитет, территориальные претензии, западный кавказ
Короткий адрес: https://sciup.org/149144058
IDR: 149144058 | УДК: 93/94(479.22)“1919” | DOI: 10.24158/fik.2023.9.20
Текст научной статьи Об исторических предпосылках территориальных претензий Грузии в ходе Парижского конгресса 1919 г
1918 г., Н. Жордания заявил: «…связь с Россией прервалась и Закавказье осталось одно. Мы должны встать на собственные ноги и сами себе помочь или погибнуть в анархии»1.
9 апреля 1918 г. Закавказский сейм провозгласил независимость Закавказья от России, а 26 мая 1918 г. Грузия восстановила упраздненный в начале XIX в. государственный суверенитет. Однако, отпав от России, в стремлении скорейшего международного признания, Грузия попала в полную зависимость от Германии, которая, высадив десант в Поти, оккупировала территорию страны. В то же время германские военные специалисты, используя военные склады бывшего Кавказского фронта, начали формирование и обучение национальной грузинской армии.
Грузинское правительство, возглавляемое в данный период Н. Рамишвили, опираясь на поддержку Германии, также стремилось решать свои геополитические задачи. Одной из них стало обеспечение Грузии беспрепятственного доступа к продовольственному рынку Юга России путем обретения собственной границы с Кубано-Черноморской Республикой, откуда планировалось наладить поставки хлеба в Грузию в обмен на нефтепродукты (Карпенко, 2008).
В июне 1918 г. грузинские войска под командованием генерала Г. Мазниашвили, получив от военного министра Грузии Г. Гиоргадзе приказ оккупировать Абхазию, вторглись на ее территорию и захватили Сухум: 18 июня Г. Мазниашвили был назначен генерал-губернатором Абхазии, а 26 июня объявил ее Сухумским генерал-губернаторством в составе Грузии. В то же время представители грузинской диаспоры Сочи прибыли в Абхазию и 4 июля в беседе с Г. Мазниашвили обещали поддержку грузинского наступления силами не менее 2 тысяч грузинских боевиков. Оккупационный корпус вновь перешел в наступление и 6 июля после кровопролитного боя с отрядами большевиков овладел городом2.
Дальнейшее стремительное наступление позволило грузинским отрядам сломить сопротивление красногвардейцев и продвинутся вглубь побережья Черноморской губернии, где 26 июля грузины овладели Туапсе, а 4 августа – заняли станцию Кривенковская. Несмотря на то что вскоре оккупационный корпус Г. Мазниашвили был выбит из Туапсе отступавшими под ударами добровольческих сил красными частями Таманской армии, грузинам удалось закрепиться к юго-востоку от Туапсе.
Когда 26 августа 1918 г. Добровольческая армия заняла Туапсе, ее командование выступило с требованием к грузинской стороне очистить территорию Сочинского округа как неотъемлемую часть России. Грузины мотивировали отказ выполнить требование русских союзническим соглашением с Германией, которая, в свою очередь, выслала подкрепление грузинским войскам: две десантные группы высадились у Дагомыса и Адлера. Данное обстоятельство было расценено А.И. Деникиным как прямая угроза Новороссийску. Одновременно из Закавказья в Новороссийск прибывало большое количество русских беженцев, под давлением националистов и грузинских оккупантов вынужденных оставить дома и имущество на территориях, занятых Грузинской Демократической Республикой.
Состоявшиеся в Екатеринодаре переговоры не дали результата. Несмотря на то что командование Добровольческой армии настаивало на удалении грузинских частей с русской территории, представители краевой рады вели закулисную политику в целях раздела Черноморского побережья между независимой Кубанью и Грузией.
После окончания войны 11 ноября 1918 г. место Германии на Кавказе заняла Британская империя, оккупировавшая в конце ноября важнейшие стратегические пункты Закавказья – Баку и Ба-тум. В начале декабря Британия потребовала вывести грузинские войска из Сочинского округа, провозгласив создание здесь нейтральной, а на самом деле буферной, подконтрольной англичанам зоны между Россией и Грузией. 9 декабря грузины начали эвакуацию из Сочинского округа, который, однако, несмотря на протесты Британии, был незамедлительно занят войсками Добровольческой армии. Начавшаяся в декабре 1918 г. грузино-армянская война способствовала продвижению защищавших армянское население русских войск, вышедших 28 января к р. Бзыбь. Требования британского правительства носили ультимативный характер: угрожая А.И. Деникину прекращением военной помощи в борьбе с большевиками, Британия указывала на необходимость ожидать решения вопроса о границах Грузии на открывшейся в Париже мирной конференции (Карпенко, 2008).
Территориальные претензии. Именно в границах до декабрьского наступления русских войск в Сочинском округе грузинская делегация указывала свои территориальные претензии на северо-западе: «…Сухопутная граница Грузии начинается на восточном побережье Черного моря, у устья маленькой речки Макопсе, расположенной в 14 км к юго-востоку от г. Туапсе. Следуя вверх по течению р. Макопсе, граница проходит по горе Псеушко, с которой стекает эта река, и оттуда продолжается на северо-восток вдоль гребня гор, который отходит от Главного хребта Кавказа и создает водораздел между бассейнами р. Туапсе и Аше, впадающих в Черное море…»1.
Предвидя, что подобные претензии могут вызвать закономерные вопросы представителей государств, участвующих в конференции, грузинская сторона сделала специальное дополнение: «…присоединение к Грузии территории между р. Макопсе и р. Мзымта, которая, кстати, принадлежала ей в прошлом, не может вызвать возражений. После насильственного выселения отсюда в XIX в. местных кавказских племен этот край уже не имеет определенного этнографического характера»2. Также в основном докладе, сделанном грузинской делегацией в Париже 14 марта 1919 г., особо отмечалось: «Определяя свои границы, правительство Грузии требует только те территории, которые всегда принадлежали грузинскому народу и которые имеют для него жизненно важное значение…»3.
Представляя свой доклад на Парижском конгрессе, грузинская делегация демонстрировала «историческую» карту Грузии, составленную грузинским историком И. Джавахишвили, автором работы «Границы Грузии исторически и с современной точки зрения», выпущенной тогда же отдельной брошюрой в Тифлисе (Джавахишвили, 1919). Оправдывая территориальные претензии Грузии на северо-западе, И. Джавахишвили опирался на сведения легендарных источников, среди которых сочинение Л. Мровели «Жизнь картлийских царей» (XI в.)4. Согласно средневековой легенде, праправнук библейского патриарха Ноя – Таргамос, удалившись на Кавказ из Вавилона, где нечестивые потомки его пращура воздвигли Вавилонскую башню, разделил землю между «Араратом и Масисом» среди своих сыновей: «Эгросу дал землю приморскую, определив ей границы: на востоке – гора небольшая, которая ныне называется Лихи; на западе – море; на севере – река Малая Хазария, куда упирается своим краем Кавказ» (Джавахишвили, 1919).
Определяя историческую северо-западную границу Грузии, И. Джавахишвили так и писал: «Согласно историческим данным… граница между Грузией и соседними странами проходила гораздо севернее, а именно в том месте, где образовался главный Кавказский хребет. <…> Считалось, что это место слияния Кубани и оконечности Кавказского хребта» (1919). Рассматривая Абхазию как составную часть средневекового Грузинского государства, И. Джавахишвили утверждал: «На протяжении веков границы Грузинского государства не раз превышали границы племенного населения, а в период правления до IX и XII вв., особенно в XII в. при Давиде Строителе и царице Тамар, весь Кавказ принадлежал Грузии» (1919).
Формула «Грузия – от моря и до моря», означавшая фактически всю территорию Кавказа, известна из средневековой грузинской литературы. В «Завещании царя Давида Гелатскому монастырю», составленном в XI в., в данном контексте упоминается Никопсия, расположенная на побережье Западного Кавказа. Сами границы Грузинского царства обозначаются следующим образом: «Отечество и новоприобретенное подвигом моим и вашим от Никопсии до Дарубандского моря…»5.
Никопсия Зихийская . Никопсия в грузинских и греческих средневековых источниках служила ключевым пунктом, определяющим границу христианской ойкумены в Восточном Причерноморье, за которым лежали территории автохтонных племен – зихов. Поэтому вопрос о том, насколько далеко на северо-запад по Черноморскому побережью простиралась политическая власть грузинских царей, напрямую зависит от локализации Никопсии.
Никопсия Зихийская – крупный церковный центр Западного Кавказа – просуществовала как центр автокефальной архиепископии до середины IX в. Именно к этому периоду относится упоминание города в сочинении византийского автора, Епифания Монаха, который, повествуя о посещении святыми апостолами Авасгии, где в Себастополисе Великом «Андрей, оставив Симона с учениками, сам поднялся в Зихию…»6. Из того же текста становится известным, что «есть… гробница в Никопсии Зикхийской с надписью “Симона Кананита” и в ней есть мощи»7.
Автор неслучайно упоминает Никопсию – другая гробница апостола Симона в его время находилась в Боспоре8 – городе, значительно удаленном от Абазгии и Никопсии Зихийской, располагавшейся недалеко от Себастополиса, на границе Абасгии с Зихией. На северо-западной границе Абхазии локализуют Никопсию средневековые грузинские источники: «могила Симона Кананита находится в городе Никопсе, между Абхазией и Джикети»1. В контексте вопроса о границе Абхазии и Зихии в XI в. Никопсию упоминает Константин Багрянородный2.
Более внимательно Дузу-Кале в 1907 г. исследовал А.А. Миллер, который, подробнее останавливаясь на разновременных находках, сделанных на месте крепости, делает лишь один вывод: «…разрушение крепости и грабительские раскопки начались давно» (1909).
И. Джавахишвили был прекрасно осведомлен об этнополитическом устройстве Восточного Причерноморья в средневековую эпоху. Обозначая Туапсе как точку, до которой простиралось политическое влияние Грузинского царства в древности, грузинский историк не подвергает сомнению абхазо-адыгскую этимологию данного ойконима: «До сих пор очевидно, что Доабзу или Туапсе принадлежали абхазам, потому что именно это означает само географическое название» (Джавахишвили, 1919). Автор особо подчеркивает, что принадлежность Туапсе абхазам объясняется следующим: «…джики были братским племенем абхазов и их единство с Абхазией следует считать вполне естественным» (Джавахишвили, 1919).
Тем не менее в контексте появления новейшей гипотезы о локализации Никопсии в устье Нечепсухо одновременно с остро вставшей необходимостью демаркировать предполагаемую линию границы вновь созданного Грузинского государства И. Джавахишвили была сделана попытка значительно «расширить» территорию Грузинского царства на северо-запад.
Как известно, вопрос о границах Грузии на Парижском конгрессе так и не был рассмотрен. В феврале 1921 г. грузинские войска были выбиты из Абхазии, а 28 марта 1921 г. на территории бывшего Сухумского округа была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая Республика, просуществовавшая до 1931 г., когда под давлением И.В. Сталина АбССР вошла в состав Грузинской ССР. Вслед за И. Джавахишвили советская историография заняла в вопросе о Никопсии Зихийской позицию, прямо противоположную дореволюционной точке зрения. В 1949 г. Б.А. Куфтин целиком поддержал гипотезу о Никопсии в устье р. Нечепсухо (1949: 99–101), того же мнения придерживались Л.И. Лавров (1982: 167–170) и З.В. Анчабадзе (2010: 344).
Однако дальнейшие археологические исследования крепости Дузу-Кале в районе пос. Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края не смогли подтвердить гипотезу о нахождении здесь Никопсии – важнейшего церковного центра Западного Кавказа в VI–IX вв. Специалисты историко-археологической экспедиции Института истории АН ГССР, ознакомившись в октябре 1951 г. с руинами Дузу-Кале, на основании изученного материала могли лишь заключить, что «памятник представляет собой остатки поселения городского типа позднеантичной и средневековой эпохи» (Анчабадзе, 2010: 344). При этом тбилисские ученые не отмечали связь Дузу-Кале с известной из источников древней Никопсией, заметив только, что «археологическое изучение этого замечательного памятника, несомненно, обогатило бы кавказоведение ценным материалом» (Анчабадзе, 2010: 344).
Материал, обнаруженный в ходе археологических раскопок, проведенных в 1957–1960 гг. экспедицией Туапсинского музея во главе с Н.Г. Анфимовым в Дузу-Кале и окрестностях пос. Новомихайловского, в целом укладывался во временной промежуток конца IV – VI в. Кроме того, были обнаружены архитектурные элементы, характерные для церковной архитектуры V–VI вв.: части капителей византийско-коринфского типа, плинфа, обломки черепицы давали право предполагать, что в непосредственной близости от раскопа могло находиться «какое-то крупное монументальное сооружение, возможно, базилика, руины которой могут быть скрыты…» (Анфимов, 1980: 95).
Результаты, позволяющие связывать руины крепости Дузу-Кале со средневековой Ни-копсией, основные упоминания о которой в церковных документах как о центре Зихской епархии относятся к середине VII – IX в., так и не были получены. Тем не менее в академическом издании «История народов Северного Кавказа» (1988: 123) без упоминания альтернативных точек зрения в ранг официальной возведена точка зрения проф. З.В. Анчабадзе, который, в свою очередь, в вопросе локализации Никопсии поддерживал версию Ф.Д. де Монпере и его последователей (Половинкина, 1001: 24–25).
Попытки обосновать локализацию Никопсии «в устье Нечепсухо» в конечном счете породили множество спекуляций. Так, в изданном в 2015 г. сборнике статей под названием «Очерки истории Христианства на Северном Кавказе», ставшем плодом коллективного труда профессоров и преподавателей МГИМО, в результате поверхностного ознакомления с предметом исследования в тексте появились вопиющие неточности. В гл. 1 «Христианизация Кавказа: от апостолов до святых мучеников-просветителей», автор, в частности, пишет: «…под Никопсисом имелось в виду древнее приморское селение, располагавшееся южнее Фанагории между протоками дельты Кубани в устье реки Нечепсухо (в окрестностях современного города Туапсе)» (Волхонский, 2015: 64).
Следует ли комментировать данный пассаж, абсурдность которого объясняется тем, что в данном случае без указания источника в тексте приведена некорректная цитата из работы А.В. Гадло «Византийские свидетельства о Зихской епархии как источник по истории Северо-Восточного Причерноморья»: «Новая епископия была основана значительно южнее Фанагории, расположенной между протоками дельты Кубани, в горной части Кавказского побережья. Место для нее было выбрано в устье реки Нечепсухо, где существовало селение, отмеченное в перипле Псевдо-Арриана…» (1991: 95).
Заключение . Очевидно, что вопрос о средневековых границах Грузии, поставленный на Парижском конгрессе в 1919 г. грузинской делегацией, находится в непосредственной связи с проблемой локализации крупнейшего религиозного центра Западного Кавказа и всего Восточного Причерноморья: Никопсии Зихийской. Вместе с тем данный вопрос получил совершенно новое значение, когда политические амбиции молодой Грузинской Республики нашли опору в тенденциях историографических исследований региона.
Археологические исследования, проводимые в ХХ в. на территории крепости Дузу-Кале, не исключают наличия здесь городского поселения позднеантичной и средневековой эпох. Таким поселением, имевшим собственный храм, мог быть один из пунктов, через которые Византийская империя вела торговлю на восточном побережье Черного моря, контролируя караванные пути через перевалы Большого Кавказского хребта. Особенно активной деятельность империи становится в VI в., когда император Юстиниан Великий проводит политику по христианизации Северного и Восточного Причерноморья. Этот период отмечен началом масштабного церковного строительства в регионе, многие памятники известны и изучены, другие, среди которых остатки церковных сооружений близ устья р. Нечепсухо, еще ждут своих исследователей. Можно согласиться с Ю.Н. Вороновым, мнение которого приводит в работе «Христианство на Северном Кавказе до XV в.» В.А. Кузнецов, в том, что «на побережье в районе Ново-Михайловского, где имеется разрушенная крепость и храм позднеюстиниановского времени» (Воронов, 1988; Кузнецов, 2010: 23), может быть размещен известный из сочинений Страбона и до сих пор не локализованный Зихополис (Известия древних писателей…, 1890: 157).
Список литературы Об исторических предпосылках территориальных претензий Грузии в ходе Парижского конгресса 1919 г
- Анфимов Н.Г. Зихские памятники Черноморского побережья Кавказа // Северный Кавказ в древности и в Средние века: сб. ст. / отв. ред. В.И. Марковин. М., 1980. С. 92–113.
- Анчабадзе З.В. Избранные труды: в 2 т. Т. 1. История и культура древней Абхазии. Из истории средневековой Абхазии (VI–XVII вв.). Сухум, 2010. 548 с.
- Брун Ф.К. Черноморье: сборник исследований по исторической географии Южной России (1852–1877 гг.): в 2 ч. Ч. 2. Одесса, 1880. 408 с.
- Волхонский М.А. Жребий святых апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита: христианизация Лазики, Абхазии и Зихии // Очерки истории христианства на Северном Кавказе: с древнейших времен до начала ХХ в. / ред. А.П. Пят-нов. М., 2015. С. 62–81.
- Воронов Ю.Н. К локализации Никопсии // XV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: тез. докл. Махачкала, 1988. С. 72–73.
- Гадло А.В. Византийские свидетельства о Зихской епархии как источник по истории Северо-Восточного Причерно-морья // Из истории Византии и византиноведения: межвуз. сб. / под ред. Г.Л. Курбатова. Л., 1991. С. 93–106.
- Джавахишвили И.А. Границы Грузии исторически и с современной точки зрения. Тифлис, 1919. 57 с. (На груз. яз.)
- Дорофей (Дбар Д.), архим. История Христианства в Абхазии в первом тысячелетии. Новый Афон, 2005. 263 с.
- Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе / собр. и изд. с рус. пер. В.В. Латышев. Т. 1. Греческие писатели. СПб., 1890. 946 с.
- История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / отв. ред. Б.Б. Пиотровский. М., 1988. 543 с.
- Карпенко С.В. «Россия на Кавказе останется навсегда»: Добровольческая армия и независимая Грузия (1918–1919 гг.) // Новый исторический вестник. 2008. № 2. С. 113–123.
- Костаненко Л.А. Никопсия – Анакопия: проблема локализации в полисемии историко-лингвистического контекста // Отрадненские историко-краеведческие чтения. Вып. VIII: материалы межрегион. науч. конф. / ред.-сост. С.Г. Немченко. Армавир, 2020. С. 54–60.
- Кузнецов В.А. Христианство на Северном Кавказе до XV в. Пятигорск, 2010. 200 с.
- Куфтин Б.А. Материалы к археологии Колхиды: в 2 т. Т. 1. Абхазская археологическая экспедиция 1934 г. под руко-водством академика И.И. Мещанникова. Три этапа истории культурного и этнического формирования дофеодальной Абхазии. Тбилиси, 1949. 360 с.
- Лавров Л.И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924–1978 гг.). Л., 1982. 224 с.
- Латышев В.В. К истории христианства на Кавказе. Греческие надписи из Новоафонского монастыря // Сборник археологических статей, поднесенный графу А.А. Бобринскому в день 25-летия председательства его в Археологической комиссии. 1886–1911 гг. СПб., 1911. С. 169–198.
- Миллер А.А. Разведки на Черноморском побережье Кавказа в 1907 г. // Известия Императорской археологической комиссии. 1909. Вып. 33. С. 71–102.
- Монпере Ф.Д. де. Путешествие вокруг Кавказа: у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму. Т. 1. СПб., 2020. 576 с.
- Половинкина Т.В. Черкесия – боль моя (древнейшее время – начало ХХ в.): 2-е изд., доп. Майкоп, 2001. 224 с.
- Спицын А.А. Могильник VI–VII вв. в Черноморской губернии // Известия Императорской археологической комиссии. 1907. Вып. 25. С. 188–192.
- Fragmenta historicorum graecorum / collegit, disuit, notis et prolegomenis illustravit C. Müllerus. Vol. V. Paris, 1873. 423 p.