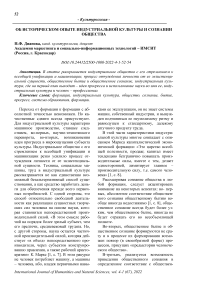Об историческом опыте индустриальной культуры и сознании общества
Автор: Дианова Н.Ф.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4-1 (67), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается индустриальное общество с его стремлением к всеобщей унификации и машинизации, процесс отчуждения личности от ее экзистенциальной сущности, общественное бытие и общественное сознание, индустриальная культура, где на первый план выходит - идея прогресса и использование науки во имя ее , индустриальная культура и человек - профессионал.
Формация, индустриальная культура, общество, сознание, бытие, прогресс, система образования, формации
Короткий адрес: https://sciup.org/170193285
IDR: 170193285
Текст научной статьи Об историческом опыте индустриальной культуры и сознании общества
Переход от формации к формации с абсолютной точностью невозможен. Но качественные сдвиги всегда присутствуют. Для индустриальной культуры характерно машинное производство, ставшее следствием, во-первых, научно-технического переворота, во-вторых, возникновения идеи прогресса в мироощущении субъекта культуры. Индустриальное общество с его стремлением к всеобщей унификации и машинизации резко усилило процесс отчуждения личности от ее экзистенциальной сущности. Техника, социальные машины, труд в индустриальный культуре рассматривается не как единственно возможный безальтернативный способ существования, а как средство заработать деньги для обеспечения прежде всего первичных потребностей. С одной стороны, это способ относительно свободной деятельности как реализации сущностных творческих сил человека на основе науки, которая становится непосредственной производительной силой. «В этом смысле рабочий на порядок более зрелый субъект, чем его предтечи, средневековый трудяга. Но, с другой стороны, наука остается частичной производительной силой, которая действует «в обход» непосредственного производителя, через субъектов конструированию правления, а также рабочий аристократию» К. Маркс [1, с. 7]. В этом ракурсе не человек потребляет машину, а машины - человека, ибо, владея первичными навы- ками ее эксплуатации, он не знает системы машин, собственный индустрии, и вынужден подчиняться ее неумолимому ритму и равнодушен к стандартному, далекому штучного продукту труда.
В этой части характеристики индустриальной культуры многое совпадает с описанием Маркса капиталистической экономической формации: «Это царство всеобщей полезности, продаж; капитал имеет тенденцию безгранично повышать производительные силы, вместе с тем, делает односторонней, лимитирует главное – производительную силу, т.е. самого человека» [1, с. 8].
Рассматривая сознание общества в любой формации, следует акцентировать внимание на некоторых аспектах: во- первых, абсолютное соответствие общественного сознания общественному бытию вообще никогда недостижимо [1, с. 8], общественное сознание всегда будет более узким, чем общественное бытие, никогда не будет отражать его во всеобъемлющей полноте.
Во-вторых, общественное бытие и общественное сознание формируются не сразу и в процессе их формирования возможен повтор (в своеобразной форме) процессов, присущих «предыстории человеческого общества».
В-третьих, реализуется возможность приведения общественного сознания в определенное соответствие с обществен- ным бытием далеко не всегда и не полностью. Возможны деформации, несоответствие лозунгов и реальных дел, возникают иллюзорные, идеологические формы сознания, которые не только не проясняют сущности бытия, но и маскируют его. Однако, не вполне адекватное, иллюзорное общественное сознание в определенной мере способно приводить в движение массы и их руководителей, побуждая к действию, и в течении определенного времени, в любом случае, приведено будет общественное сознание к соответствию действительности.
К концу XVIII началу XIX веков стал вырисовываться результат великих революций Нового времени. В результате отрыва радикалов от народных масс восходящее движение сменялось нисходящим, умеренные силы снова брали верх, отправляя радикалов на эшафот. А тем временем с непостижимой быстротой успевали перемениться нравы и порядки обновленного общества: с политической арены исчезали пламенные энтузиасты революции и появлялись расчетливые карьеристы и дельцы; режим реквизиций, уравнительности, экономии сменялся разгулом спекуляций, наживы; армия из защитницы новых порядков становилась их распорядительницей; все политические передвижки кончались узурпацией власти удачливых полководцев революций. Пролетариат на политической арене так и не смог переломить ход борьбы в свою пользу. Исторический опыт показал, что революции повторяются, при этом принося вместо гражданской свободы позорный деспотизм, и всегда готовы вспыхнуть с новой силой. В политической концепции Н.Г. Чернышевского отмечается, что «Всякая партия, на стороне которой есть военная сила, может монополизировать в свою пользу верховные права народа и, благодаря ловкой передержке, стать якобы исключительной представительницей и защитницей нужд народа… Становясь душеприказчиком своего народа, оно (бонапартистское самодержавие) распоряжается им, именно как мертвым, и с имуществом народа поступает по своему благоусмотрению… В даль- нейшем душится и слово, и совесть, ибо из этих категорий выходят разные неприятные вещи для власти» [2, с. 404]. Величайшие философы пытались постичь законы общественного развития, найти ответы на главный вопрос – как сделать жизнь человека счастливой, справедливой, безопасной. Опыт же великих революций – французской 1789 и российской 1917, показал, что они не только имели радикальное воздействие на характер исторического процесса, дали импульс прогрессу человечества, но и во многом сформировали образ мышления, который стал превалировать в общественном сознании, сохраняя при этом буржуазную форму сознания общества.
Энгельс Ф. отмечал, что «конкуренция на внутреннем рынке отступает перед картелями и трестами, но на мировом рынке начинается всеобщая промышленная война, борьба за мировое господство. Каждый из элементов, противодействующих повторению кризисов старого типа, носит в себе зародыш гораздо более грандиозного кризиса. Там, где дело идет о полном преобразовании общественного строя, массы сами должны принимать в этом участие, сами должны понимать, за что идет борьба, за что они проливают кровь, жертвуют собой» [3, с. 544].
Несмотря на все перипетии, происходящие в эпоху Нового времени, революции, борьба за выживание, формировались новые условия объективной реальности в индустриальной культуре Запада, где главенствующей становится идея прогресса. В сознании общества начинается массовое внедрение научных знаний, изменяется постепенно восприятие мироздания. Основной способ передачи информации в индустриальной культуре становится – письменно-печатный. Идея научного преобразования и прогресса подкрепилась и протестантской этикой (М. Вебер), ценностями которой являлись – рациональность, бережливость, трудолюбие, что обуславливало функционирование индустриальной культуры, стало ее идеологической основой и способствовало достижению относительно благополучного мира евро- пейской цивилизации. Смыслом подготовки человека к осуществлению своего жизненного сценария стала необходимость овладевания знаниями, именно, научными. Таким образом, в индустриальной культуре на первый план выходит – идея прогресса и использование науки во имя его. В дальнейшем начинается массовое образование, ставшее положительной тенденцией для стран Европы. Субъектом обра- зования начинает выступать государство как организованная система. Целью образования является человек образованный, способный реализовать свой профессиональный потенциал в заданных социальноэкономических условиях, что было зафиксировано в нормативных документах (Законы об образовании, Доктрины). Повсеместно создаются общедоступные массо- вые школы, учрежденные государствами и ориентированные на государственный заказ. Государство же в свою очередь ориентировано на поддержание и развитие индустрии, на производство товаров потребления.
Таким образом систему образования породила индустриальная культура, основываясь на рационализме. Индустриальная культура сформировала свой тип социального наследования, основным содержание которого стали научные знания. Конечной целью в системе образования индустриальной культуры стал человек – профессионал, получивший узкую специализацию в какой- либо научной сфере. Идеология ра- ционального использования научных знаний стала доминантной, что определяло логику осмысления любого культурного явления. Ориентированность системы образования была направлена на социальный заказ, который определялся актуальными, конъюнктурными условиями. Это выразилось и в отборе содержания изучаемых дисциплин, большей степени технического характера, а все что касалось эмоционального, духовного, играющего роль в воспитании и формировании личности, ушло на второстепенные позиции. Характер и смысл труда стал заключаться в отчуждении субъекта от своей сущности.
Список литературы Об историческом опыте индустриальной культуры и сознании общества
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 13. - М., 1986.
- Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. в 15 т., Т. 4. - М., 1989.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 22. - М., 1986.