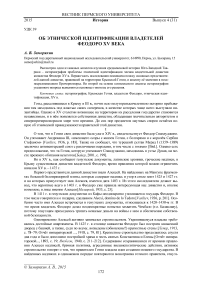Об этнической идентификации владетелей Феодоро XV века
Автор: Заморяхин А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История средних веков
Статья в выпуске: 4 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрен один из важных аспектов изучения средневековой истории Юго-Западной Тав-рики - историография проблемы этнической идентификации членов владетельной династии княжества Феодоро XV в. Первая часть исследования посвящена поиску основных представителей данной династии, правившей на территории Крымской Готии, и анализу её значения в позд-несредневековом Причерноморье. Во второй на основе комплексного анализа историографии указанного вопроса выявляются основные гипотезы его решения.
Историография, крымская готия, владетели феодоро, этническая идентификация, xv в
Короткий адрес: https://sciup.org/147203890
IDR: 147203890 | УДК: 39
Текст научной статьи Об этнической идентификации владетелей Феодоро XV века
Готы, расселившиеся в Крыму в III в., почти всю полуторатысячелетнюю историю пребывания там находились под властью своих сюзеренов, в качестве которых чаще всего выступали византийцы. Однако в XV столетии возникшее на территории их расселения государство становится независимым, и в нём появляется собственная династия, обладавшая значительным авторитетом в северопричерноморском мире того времени. До сих пор предметом научных споров остаётся вопрос об этнической принадлежности правителей этой династии.
I
О том, что в Готии своя династия была уже в XIV в., свидетельствует Феодор Спандуджино. Он упоминает Андроника III, «имеющего ссоры с князем Готии, с болгарами и с королём Сербии Стефаном» [ Vasiliev , 1936, р. 183]. Также он сообщает, что турецкий султан Мурад I (1359–1389) заключил антивенгерский союз с различными народами, в том числе с готами» [Ibid.]. Однако есть предположение, что та Готия, которую упоминает Спандуджино, находилась в устье Дуная, на месте прежнего обитания везеготов [ Байер , 2001, с. 199].
Но в XV в., как сообщают генуэзские документы, латинские хроники, греческие надписи, в Крыму существовала династия владетелей Феодоро, время правления которой можно ограничить началом XV в. – 1475 г.
Первого представителя данной династии звали Алексей. На найденных на Мангупе фрагментах большой беломраморной плиты, которые содержат надпись и узор в стиле плит 1425 и 1427 гг. и на которых присутствует имя Алексея, имеется дата 1403 г. Из этого исследователи делают вывод, что вероятнее всего в 1403 г. в Феодоро уже правила интересующая нас династия и, вполне возможно, в лице именно Алексея [ Малицкий , 1933, с. 25].
В 1411 г. в генуэзских документах из Кафы неоднократно упоминается государь Феодоро. В том числе говорится и о подарке, сделанном Alecxi, domino de lo Tedoro [ Vasiliev , 1936, р. 201]. Особенно часто имя Алексея встречается в генуэзских документах, относящихся к 1420–1430-м гг. В это время владетель Феодоро делал неоднократные попытки захватить Чембало (т.е. Балаклаву), поэтому генуэзцам приходилось тратить немалые деньги на войны с ним и обеспечение собственной безопасности.
Одновременно Алексей активно занимался строительством. Укрепившемуся владыке требовались достойные апартаменты. В 1425 г. в столице княжества Феодоро был построен княжеский дворец с башней, а также, судя по всему, возведены (обновлены?) крепостные стены [ Лепер , 1913, с. 78–79; Отчёт императорской ..., 1918, с. 79, 81]. Крепостное строительство продолжилось спустя два года и было дополнено постройкой храма в честь святых Константина и Елены [Отчёт императорской..., 1893, с. 19; Якобсон , 1940, с. 211–212]. Содержание сохранившихся от времени правления Алексея надписей, брачная политика, агрессивные внешнеполитические действия, активное строительство говорят о том, что правителем Готии владела идея создания мощного государства. В найденных надписях в одинаковом порядке повторяются монограмма готского правителя, генуэз-
ский герб и герб Палеологов с двуглавым орлом [ Малицкий , 1933, с. 26, рис.8; с. 34, рис.10].
В середине 1440-х гг. Алексей погиб, судя по всему, во время генуэзского отвоевания в очередной раз захваченного владетелем Феодоро Чембало [ Байер , 2001, с. 213].
Иоанном Евгеником в эпитафии на раннюю кончину сына сказано, что первородным сыном Алексея был Иоанн, названный «государем Хазарии» ещё при жизни отца. Однако правитель Иоанн отсутствует в генуэзских документах. Как показывает ряд источников, он скончался во цвете лет ещё в 1435 г. [Там же, с. 214, 387–393].
Главой Готии стал другой сын Алексея, который в генуэзских документах именуется то Оло-беем, то Алексеем [ Vasiliev , 1936, р. 212–213, 219, 224]. Учитывая явную татарскую этимологию первого из наименований, а также то обстоятельство, что ханы Солхата постепенно стали главными внешними покровителями владетелей Феодоро, сменив в этом качестве трапезунтцев, В. П. Степаненко, а за ним Х.-Ф. Байер предположили, что слово «Олобей» является не именем, а титулом, подобным «Улуг беку» – «Большому, Великому беку» [ Байер , 2001, с. 215, 220].
В конце 1440-х–1450-х гг. Олобей Алексей постоянно находился в контакте с соседями – генуэзцами и татарами. Всех их объединяла надвигающаяся османская угроза. В письме протекторов Банка святого Георгия готский правитель именовался «великолепным и могучим господином Оло-беем, государем Феодоро» (magnifico et potenti domino Olobei, Tedori domino) [ Vasiliev , 1946, р. 232– 233]. Формальная дипломатическая фразеология показывает, что представитель готской династии пользовался почётом и уважением, вряд ли возможным применительно к малозначительному царьку.
Последним свидетельством об Олобее Алексее является надпись от 1459 г., сопровождающаяся его гербом [ Мыц , 1988, с. 104–105; 1991, с. 192]. Та же надпись содержит два других герба правителей Готии, ставших преемниками Олобея Алексея на его посту, – Исайко и Александра, которые были его братьями или сыновьями [ Байер , 2001, с. 396–397]. Имя первого из них впервые появляется в 1465 г. и известно в транскрипции Saichus или Saicus. Он же отождествляется с известным по русским источникам Исайко. По мнению А. А. Васильева, настоящим его именем было Исаак [ Vasiliev , 1936, р. 236]. В условиях турецкой опасности Исайко поддерживал мир с генуэзскими правителями Кафы и вынужден был выплачивать дань турецкому султану.
В данном месте уместно остановиться на брачной политике готских правителей. Первым её стал проводить амбициозный Алексей I. У продолжателя трапезунтской хроники Михаила Панаре-та имеется следующая надпись, относящаяся ко времени между 1426 и 1429 г.: «В том же году, в ноябре месяце пришла также из Готии василисса госпожа Мария, дочь господина Алексея из Феодоры, и была венчана с благочестивым деспотом, своим мужем Давидом Великим Комнином» (цит. по [ Байер , 2001, с. 210]). Судя по всему, Алексей устроил этот брак через отца Давида, Иоанна IV Комнина, который с 1427 г. находился в ссылке в Крыму, а в 1429 г. сверг своего отца в Трапезун-те. Таким образом, Мария стала супругой Давида, будущего последнего императора Трапезунтской империи (1458–1461). Однако императрицей ей быть не довелось, так как она скончалась до 1447 г. [Там же, с. 211, 397].
Исайко продолжил политику матримониальных связей, начатую его отцом или дедом. В сентябре 1472 г. ко двору господаря Молдавии Штефана III чел Маре (Стефана Великого) (1457–1504), единственного правителя на Балканах, успешно противостоявшего османам, прибыла «княгиня из Маугопа» Мария и вышла за него замуж. Удивительным являлся тот факт, что она к этому времени уже имела двух дочерей [Vasiliev, 1936, р. 240; Байер, 2001, с. 224]. Так как браки того времени заключались «по переписке», династия, из которой берётся замуж женщина, имеющая двух дочерей, должна была обладать значительным авторитетом.
В 1474 г. великий русский князь Иван III в качестве кандидатуры в невесты для своего старшего сына Ивана Ивановича серьёзно рассматривал дочь Исайко. С целью получить сведения о ней в Мангуп был отправлен Никита Васильевич Беклемишев, который привёз весьма благожелательный отзыв. Всё было готово к процедуре сватовства, однако ему так и не суждено было состояться по причине свержения Исайко и последующего захвата Готии османами [ Карамзин , 1989, т. 6, столб. 56, прим. 125]. По иронии судьбы женой Ивана Ивановича в итоге стала Елена, дочь Стефана Великого.
Незадолго до прекращения существования Готии там произошёл государственный переворот: весной 1475 г. Исайко был убит своим братом Александром [Vasiliev, 1936, р. 245]. Однако узурпатор недолго наслаждался полученной властью. В том же 1475 г. турки овладели Мангупом. Расположение Мангупа делало его фактически неприступной крепостью, поэтому неудивительно, что разные источники говорят о длительной осаде столицы готского государства. Стоит привести рассказ Феодора Спандуджино о финале династии владетелей Феодоро: «Затем Мехмед (турецкий султан Мехмед II (1451–1481). – А.З.), видя, что государь Готии убил своего старшего брата и узурпировал государство, приказал своему бейлербею, т.е. одному из генеральных капитанов суши1, и осадил его названного государя, который сдался добровольно, только при условии, чтобы сохранить имущество и жизнь. Но, перевезя его в Константинополь, Мехмед приказал обезглавить его, говоря ему: "Залоги, которые мой капитан обещал тебе, сей должен сохранить!" И сделал турком одного его маленького сыночка, которого я видел в последний раз в Константинополе, ещё живым» [Байер, 2011, с. 228].
Дополняет свидетельство о гибели готской династии сообщение ректора совета Рагузы от 18 февраля 1476 г.: «Его (Александра. – А.З. ) со всей семьёй пленили, перевезли в Константинополь и задушили, кроме супруги и дочерей, которых тиран сохранил для своего употребления или злоупотребления» [Там же, с. 229].
Таким образом, в 1475 г., после взятия Мангупа, династия владетелей Феодоро прекратила существование. Последний готский правитель Александр был убит в турецком плену, один из его сыновей был «сделан турком», т.е. обрезан, и, возможно, отправлен в янычары, а женщины и девушки попали в гарем.
II
Вернёмся к проблеме этнической идентификации указанных правителей Готии. На неё у специалистов сложилось несколько точек зрения.
-
1) Греки. Данная версия является традиционной. На это указывают греческие имена большинства владетелей Феодоро. А. А. Васильев, Н. В. Малицкий, А. Л. Якобсон и многие другие исследователи считали, что правители Феодоро принадлежали к роду Гаврасов – известной греческой фамилии эпохи Комнинов, бывшей одно время среди правителей Трапезунта. Доказательством этого А. А. Васильев считал существование в Крыму деревни Гавры (Гавра) и то, что фамилия Гаврас/Гаврад и во время написания его труда существовала в тех местностях на северном берегу Азовского моря, куда в конце XVIII в. переселились христиане, жившие на территории, где прежде проживали крымские готы и где находилось государство Феодоро [ Васильев , 1927, с. 276–281; Малицкий , 1933, с. 22–23] (см., например [Атоян; Кесмеджи]).
По предположению учёного, один из Гаврасов был изгнан в Крым. Его потомки (т.е. ближайшие родственники правителей Готии XV в.) ещё в 1399 г. переехали в Москву ко двору великого князя Василия I. Наименование их рода была искажено в прозвище Ховра и позднейшую фамилию Ховрины. В дальнейшем эти Ховрины стали основателями дворянского рода Головиных. В «Бархатной книге» – родословной книге знатных русских семей, составленной около 1687 г., говорится, что Ховрины прибыли в Москву «из вотчины из Судака да из Кафы да из Мангупа» [ Кёппен ., 1837, с. 290–291, прим. 452; Vasiliev , 1946, 198–199].
Против этой версии выступили В. П. Степаненко и Х.-Ф. Байер [Степаненко, 1990, с. 87-90; Байер, 2001, с. 199–205]. Они справедливо отметили, что в построениях А. А. Васильева слишком много допущений и предположений, не проистекающих с необходимостью из имеющихся фактов. Искажённое имя может быть искажено от любого имени. Фамилия же Γαβρα̃ς была весьма распространена во времена Палеологов, более того, во множестве существует и в современной Греции. Поэтому её появление в Крыму могло быть никак не связано с трапезунтскими Гаврасами, а княжеский титул и идентификация московских Ховриных с владетелями Феодоро являются всего лишь домыслом исследователей.
-
2) Черкесы. Взамен Х.-Ф. Байер предложил весьма любопытную версию, согласно которой семья владетелей Феодоро по происхождению была черкесской. Основанием для неё служат несколько фактов:
-
- в ранненововерхненемецкой хронике, сообщающей о браке Стефана Великого и Марии Мангупской, сестре владетелей Феодоро, о последней говорится, что она была черкешенкой [Байер, 2001, с. 224];
-
- в трапезунтском синаксарии под 25 июня 1435 г. сообщается следующее: «Тем же днём скончался раб Бога Иоанн Тзиаркасис, и напомни его в царстве твоём. (Индикта) 13, года 6943
(1435)» [Там же, с. 392]. Иоанн в данном документе отождествляется с сыном Алексея I, первого правителя интересующей нас династии, который скончался как раз в это время. По поводу же слова «Тзиаркасис» Х.-Ф. Байер, ссылаясь на А. Брайера полагал, что оно означает именно «черкес» [Там же];
-
- в письме правителя Матреги (Тамани, Тмутаракани) Захария протекторам генуэзского Банка святого Георгия от 1482 г., присутствует свидетельство о том, что некие готские государи (signore Gothici), видимо, уцелевшие после турецкого завоевания, разоряют его владения [ Vasiliev , 1946, р. 240]. По предположению Х.-Ф. Байера, эти «готские государи» вернулись на родину своих предков [Байер, 2001, с. 225].
С выводами Х.-Ф. Байера согласился В.Л. Мыц. По его мнению, вероятнее всего, «за генуэзским определением "грек" не скрывалось ничего "этнического". Латиняне часто называли "греками" тех, кто придерживался византийского (православного) вероисповедания» [ Мыц , 2009]. О черкесском же происхождении владетелей Феодоро говорят независимые друг от друга и разновременные источники. К тому же на территории крепости в Алуште и укрепления Пампук-Кия, в помещениях XIV–XV вв., обнаружена многочисленная керамика, схожая с керамикой Черкесии того же времени. По мнению учёного, Крым в этот период был населён многочиcленными выходцами с cеверо-западного Кавказа [ Мыц , 1991, с. 81–82; Хотко ].
К сожалению, данная версия никак не объясняет греческие имена владетелей Феодоро, а также то, каким образом черкесская династия могла прийти к власти в столь отдалённом от мест их проживания районе.
-
3) Готы. Для того чтобы понять, насколько состоятельна эта точка зрения, стоит разобраться, присутствовали ли исторические готы, по происхождению германцы, в Крыму к XV в. Рассмотрим свидетельства бывавших на полуострове путешественников, которые могут пролить свет на данный вопрос.
Двадцать первого мая 1253 г. францисканский монах фламандец Гильом де Рубрук по пути в Каракорум совершил остановку в Солдайе (византийской Сугдее, нынешнем Судаке). В своих заметках он пишет следующее: «... между Херсоном и Солдайей существует сорок замков, почти каждый из них имел особый язык; среди них было много готов, язык которых немецкий» [Путешествие …, 1957, с. 90]. Данное сообщение, хотя и отстоит на тысячу лет от времени появления готов в Крыму, может показаться чрезмерно ранним по отношению к событиям XV в. К тому же известный исследователь истории готов А. А. Васильев выражал сомнение в том, что Рубрук непосредственно посещал Готию, и предположил, что он мог получить сведения о сорока замках от жителей Солдайи [ Vasiliev , 1936, р. 167]1.
Однако от первой половины XV в. сохранилось ещё несколько свидетельств на тот счёт. Между 1416 и 1427 г. домой через Крым из османского плена возвращался немец Иоганн Шильт-бергер, участник похода будущего германского императора Сигизмунда против турок в 1394 г. Судя по всему, этот рыцарь весьма интересовался языками, потому что его лингвистические описания весьма обстоятельны. В своей работе он сообщает, что в Крыму есть «язык Готии» (цит. по [ Байер , 2001, с. 234]).
В 1436–1437 гг. венецианский путешественник Иосафат Барбаро совершил поездку в Тану (Азов). О Крыме он пишет следующее: «Далее за Кафой, по изгибу берега на Великом (т. е. Чёрном. – А. З. ) море, находится Готия… Готы говорят по-немецки. Я знаю это потому, что со мной был мой слуга-немец; они с ним говорили, и (обе стороны) вполне понимали друг друга подобно тому, как поняли бы один другого фурланец и флорентиец…» [Барбаро Иосафат…, 1971, с. 157]. Таким образом, Барбаро заметил разницу в говорах слуги, немца по происхождению, и крымских готов и в то же время близость между ними. Для наглядности он использовал понятное его соотечественникам сопоставление с двумя схожими итальянскими наречиями [ Скржинская , 1971, с. 180–181, прим. 3].
Судя по приведённым свидетельствам, в первой половине XV в. в Крыму по-прежнему говорили на готском языке, имевшем несомненное сходство с этимологически близким ему немецким. Более того, самые надёжные данные, подтверждающие, что готский язык не погиб, относятся к XVI столетию.
Сообщением краковского каноника Матфея из Мехова от 1517 г., о том, что «герцоги Ман-купа, по роду и языку готы… двух герцогов и братьев из Манкупа, единственных оставшихся гот- ского рода и языка, предоставляющих надежду на потомство племени готов он (султан Мехмед II. – А. З.) пронзил мечом и овладел крепостью. Таким образом, готы были совсем… искоренены, и даже их родословие уже не проявляется» (цит. по [Байер, 2001, с. 241]), в данном случае, на наш взгляд, можно пренебречь. Разумеется, убийство правителей вовсе не означает уничтожения языка и народа. Гораздо более важно свидетельство посла австрийского императора Фердинанда I Огьера де Бусбека, который около 1560 г., будучи в Константинополе, встретил двух человек из Крыма. Один из них был одет как голландец и говорил по-гречески, другой, одетый как грек, говорил на готском языке. Будучи спрошены о «роде и обычаях» своего народа, они дали о них исчерпывающие сведения. В частности, сообщение о том, что «первейшим» городом готов является «Манкуп» (татарский Мангуп издавна отождествляется исследователями со столицей крымских готов Феодо-ро-Доросом (см. [Заморяхин, 2003, с. 21.]), свидетельствует о том, что речь идёт именно о крымских готах. Однако в отличие от предыдущих авторов, оставивших сведения о готах, Бусбек записал около восьмидесяти слов, некоторые короткие фразы и даже начало песни на готском языке. Естественно, с тех пор специалисты неоднократно предпринимали попытки разобраться, является ли записанный Бусбеком крымский язык готским, для чего проводили его филологическое сравнение с языком, на котором автор готского письменного языка Ульфила записал евангелия, и обнаружили несомненное сходство между ними (cм. [Байер, 2001, с. 244–267].
Итак, можно считать установленным, что по меньшей мере до начала 1560-х гг. в Крыму продолжали существовать как готский язык, имеющий сходство с готским языком IV в., так и носители этого языка, являющиеся отдалёнными потомками переселившихся в середине III в. в Крым готов-германцев. Сохранение на протяжении веков готского языка и готской самоидентификации делает возможным предположение о том, что владетели Феодоро в XV в. могли быть «готскими государями».
Однако к данной версии можно предъявить не менее серьёзные претензии, чем к предыдущим. Существование в XV в. готского языка не означает, что правители Готии этого периода были его носителями. Мы вообще не имеем свидетельств о том, на каком языке общались владетели Фе-одоро. Никаких других выводов, кроме того, что династия, правившая Готией в XV столетии, могла принадлежать к готам (с учётом того, что готы XV в. мало напоминали тех готов, что пришли в Крым в III в.), из приведённых фактов сделать нельзя.
Таким образом, окончательно вопрос об этнической идентификации владетелей Феодоро к настоящему моменту не решён. Свидетельств, позволяющих присоединиться к одной из версий, имеющих оборот в научных кругах, пока недостаточно. Остаётся надеяться на открытие новых фактов, способных пролить свет на этот запутанный вопрос.
Список литературы Об этнической идентификации владетелей Феодоро XV века
- Vasiliev A. A. The Goths in the Crimea. Cambridge, Mass., 1936
- Атоян P. Мангуп -последний оплот династии Гаврасов. URL: http://www.aniv.ru/archive/21/mangup-poslednij-oplot-dinastii-gavrasov-ruben-atojan/(дата обращения: 11.09.2015)
- Байер Х.-Ф. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург, 2001
- Барбаро Иосафат, Контарини Амброджо. Барбаро и Контарини о России. Л., 1971
- Васильев А. А. Готы в Крыму//Изв. Гос. Академии истории материальной культуры. Л., 1927. Т. 5
- Заморяхин А. В. Проблема локализации некоторых географических объектов области крымских готов в дореволюционной отечественной историографии//Вестник Пермского университета. Вып. 4: История. 2003.
- Кесмеджи П.А. Возникновение княжества Феодоро. URL: http://rua.gr/greece/history/14098-vozniknovenie-knyazhestva-feodoro.html (дата обращения: 11.09.2015).
- Кёппен П. И. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических//Крымский сборник. СПб., 1837
- Лепер P. X. Археологические исследования на Мангупе в 1912 г.//Изв. Археологической комиссии. СПб., 1913
- Малицкий Н. В. Заметки по эпиграфике Мангупа//Изв. Государственной Академии истории материальной культуры. Л., 1933. Вып. 71
- Мыц В. Л. Каффа и Феодоро в XV в. Контакты и конфликты. Симферополь, 2009. URL: http://www.center.crimea.ua/library/mis_kaffa_feodoro.htm (дата обращения: 11.09.2015).
- Мыц В. Л. Некоторые итоги изучения средневековой крепости Фуна//Архитектурно-археологические исследования в Крыму. Киев, 1988
- Мыц В. Л. Несколько заметок по эпиграфике средневекового Крыма XIV-XV вв.//Византийская Таврика. Киев, 1991
- Мыц В. Л. О пребывании «черкесов» в Крыму//Проблемы истории Крыма. Симферополь, 1991. Вып. 1
- Отчёт императорской Археологической комиссии за 1890 г. СПб., 1893
- Отчёт императорской Археологической комиссии за 1913-1915 гг. Пг., 1918
- Плано Карпини Дж. дель. История монгалов. Рубрук Г. де. Путешествие в восточные страны. М., 1957
- Скржинская Е. Ч. Комментарии//Барбаро Иосафат, Контарини Амброджо. Барбаро и Контарини о России. Л., 1971
- Степаненко В. П. Легенда о Таврах и Херсонес в русской и советской историографии//Историография балканского средневековья. Тверь, 1990
- Хотко С. X. Черкесская династия в Крымской Готии. URL: http://www.kavkazoved.info/news/201 l/03/30/cherkesskaja-dinastija-v-krymskoj-gotii-1403-1475.html (дата обращения: 11.09.2015)
- Якобсон А. Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. П. Мангупская базилика//Советская археология. 1940.№ 6
- Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1989. Т. 6