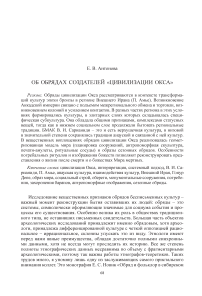Об обрядах создателей «цивилизации Окса»
Автор: Антонова Е.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 238, 2015 года.
Бесплатный доступ
Обряды цивилизации Окса рассматриваются в контексте трансформаций культур эпохи бронзы в регионе внешнего Ирана (П. Амье). возникновениеАккадской империи связано с подъемом межрегионального обмена и торговли, возникновением колоний и усилением контактов. в разных частях региона в этих условиях формировались культуры, в элитарных слоях которых складывалась специфическая субкультура. она обладала общими признаками, комплексами статусныхвещей, тогда как в нижнем социальном слое продолжали бытовать региональныетрадиции. БМАК В. И. Сарианиди - это и есть верхушечная культура, в низовойв значительной степени сохранялись традиции анауской и связанной с ней культур.В вещественных воплощениях обрядов цивилизации Окса реализовалась геомет-ризованная модель мира (планировка сооружений, антропоморфная скульптура,печати-амулеты, ритуальные сосуды) и образы сезонных обрядов. Особенностипогребальных ритуалов и изображения божеств позволяют реконструировать представления о жизни после смерти и о божествах Мира мертвых.
Цивилизация окса, интерпретация, системный подход, в. и. сарианиди, п. амье, анауская культура, взаимодействия культур, внешний иран, гонурдепе, образ мира, социальный строй, обереги, монументальные сооружения, погребения, захоронения баранов, антропоморфные изображения, сезонные обряды
Короткий адрес: https://sciup.org/14328164
IDR: 14328164
Текст научной статьи Об обрядах создателей «цивилизации Окса»
Исследование вещественных признаков обрядов бесписьменных культур – важный момент реконструкции бытия оставивших их людей: обряды – это системы, символически оформляющие значимые для социума события и процессы его существования. Особенно велика их роль в обществах традиционного типа, не оставивших письменных свидетельств. Большая часть объектов археологических исследований принадлежит именно обрядовым, хотя археологи, принадлежа дифференцированной культуре с четкой оппозицией рациональное – иррациональное, склонны упускать это из виду. Этнологи имеют перед нами явные преимущества, обладая достаточно полными синхронными данными, хотя не всегда могут проследить их историю. Все же степень полноты этнографических данных несравнима по объему с фрагментарными археологическими, поэтому так важны работы этнографов-теоретиков. Таких трудов много, я упомяну лишь одну из заслуживающих самого пристального внимания коллег. Это монография Е. С. Новик «Обряд и фольклор в сибирском шаманизме» (1984). Особенный интерес в ней представляет анализ ритуала как социально-коммуникативного явления: с остатками именно таких действий нередко имеют дело археологи.
Невозможно изучать культуру, в том числе археологическую, как набор изолированных явлений. Культура – всегда система. Системные исследования в области археологии – реконструкция, сочетание в первую очередь внутреннего анализа комплекса, а также привлечение аналогичных явлений. Уже на заре становления советской археологии одним из доминирующих было стремление историзировать материальные свидетельства (можно добавить, что это была и официальная установка). Внутренние процессы развития науки, междисциплинарные исследования, изыскания «на стыке наук» способствуют участию в археологических работах специалистов, не имеющих исторического образования. Их участие необходимо, поскольку археологические источники чрезвычайно многообразны. Однако из этого не следует, что, интерпретируя материальные остатки, можно делать заключения на вкусовом уровне, по своему усмотрению и черпать основания для них где угодно, например, в иногда малограмотных интернетных энциклопедиях.
Один из путей избегнуть произвольности интерпретации археологических свидетельств – рассматривать их как принадлежащих исторически обусловленной системе. Таким образом выявляются информационные возможности источников, их «разрешающая способность». При изучении бесписьменных и раннеписьменных культур, вероятно, наиболее перспективны те, которые обладали развитой изобразительностью. Оседлая жизнь, сложная социальная организация и интенсивные внутренние и внешние взаимодействия оседлых сообществ диктовали им необходимость создания таких систем. Существование вещей и их комплексов, отмеченных сходными, хотя и неодинаковыми признаками, позволяет выявить некие общие черты. Их перекрестный анализ приводит к определению базисных образов и стоящих за ними смыслов. О роли социологических реконструкций см. ниже.
Обнаружение В. И. Сарианиди «Бактрийско-Маргианского Археологического Комплекса» уже перестало быть сенсацией не только для археологов, но и для тех историков древнего Востока, которые не ограничивают свои исследования письменными источниками. В. И. Сарианиди считал БМАК одной из мировых цивилизаций. Его открытия включили в область цивилизаций или их ближней периферии III–II тыс. до н. э. один из регионов, обитателей которого считали второстепенными участниками исторических процессов, по крайней мере, до ахеменидского времени. К настоящему времени накоплен огромный материал, позволяющий выйти за рамки первых предположений и уточнить некоторые археологические определения. В частности, представляется более приемлемым использование вместо понятия и аббревиатуры БМАК хотя и также условного, но все же менее «археологичного» наименования, предложенного А.-П. Фран-кфором, «цивилизация Окса». Оно имеет более широкий смысл, отсылающий не к комплексу, т. е. совокупности вещей, а к событиям древности, признаки которых удается обнаружить и пытаться объяснить.
Говоря о БМАК, В. И. Сарианиди в разные годы считал определяющими его разные категории вещей. Их набор менялся по мере накопления данных: новые находки заставляли корректировать предшествующие заключения. Общей для этих категорий была их очевидная или предположительная принадлежность обрядовым сферам (Сарианиди, 1989). С течением времени к ним прибавлялись вещи из элитарных погребений Гонур Депе, умножалось количество и росло многообразие знаков высокого социального статуса.
Бактрия и Маргиана эпохи бронзы в результате раскопок В. И. Сарианиди предстали как наиболее исследованная часть обширного региона, который П. Амье почти одновременно с открытием БМАК назвал Внешним Ираном. Этот замечательный исследователь, глубокий знаток древневосточных культур, создал целостную картину трансформаций сообществ на территории Ирана и окружающих его регионов ( Amiet , 1986). Его реконструкция не была лишена пробелов, что явилось следствием неравномерной исследованности региона, в котором политическая ситуации была очень неспокойной в течение многих десятилетий. Однако благодаря широте охвата материала представленная им картина стала не только итогом целой эпохи археологических исследований. В ней намечались перспективы разностороннего осмысления археологических свидетельств событий нескольких тысячелетий. П. Амье считал, что на окраине Иранского Плато в середине IV – середине II тыс. до н. э. сложилась культурная общность. Обитатели обширного и разнообразного в природном отношении региона, в том числе Бактрии и Маргианы античных свидетельств, находились под воздействием государств Месопотамии и юго-запада Ирана. Их объединяли исторические судьбы и торговля на далекие расстояния. В результате у насельников областей Внешнего Ирана сформировались собственные элиты. В этой среде возник своеобразный культурный язык, прослеживаемый археологически, – совокупность сходных в основном престижных вещей из металлов и минералов, отмеченных общими стилистическими чертами, а также аналогичных архитектурных сооружений, изобразительных мотивов, ритуалов. Образовалось культурное койнэ. Собственно относящиеся к субкультуре верхов вещи в Бактрии и Маргиане В. И. Сарианиди и определил как БМАК. Однако П. Амье считал, что в низовой культуре во всем регионе продолжали сохраняться местные традиции. Ко времени публикации П. Амье самые представительные материалы с северо-востока Внешнего Ирана происходили из немногочисленных раскопанных археологами архитектурных сооружений и разграбленных могильников Афганистана. Сейчас по объему и информативности их намного превосходят находки из научных раскопок памятников Маргианы. Этим наука обязана неустанной деятельности В. И. Сарианиди.
В многочисленных сочинениях, статьях и монографиях с высококачественными иллюстрациями В. И. Сарианиди ввел в научный оборот огромное количество самых разнообразных памятников Маргианы. Среди них целые архитектурные комплексы, масса вещей самого разного назначения. Он предпринял громадные усилия для определения их места на культурной карте Передней и Центральной Азии. Главным объектом многолетних раскопок стал Гонур Депе, столичное, по его определению, поселение, центр страны Маргуш с монументальными сооружениями, некрополями (в том числе «царским»), участками коллективных обрядов. Он не ограничился определением «страна», считая Маргуш царством.
Опубликованные материалы результатов раскопок Гонура представляют картину необычайной сложности. Интерпретация их требовала особой археологической смелости. Естественно, многие предположения он делал с оговорками и сопровождал знаком вопроса. С благодарностью следует сказать, что он сделал все для того, чтобы начатые им исследования были продолжены. Одна из наиболее важных проблем – каким позволительно считать сообщество (или сообщества) его насельников? Было оно рыхлым или централизованным? От того, считать его царством или совокупностью отдельных оазисов со своими центрами, зависит понимание структуры власти, интерпретация свидетельств образа жизни людей, их обрядов и мировосприятия и т. д. От решения этой проблемы зависит и понимание и оценка периода существования «страны Маргуш».
Открытия В. И. Сарианиди произвели сильное впечатление на научную общественность уже в 80-е годы прошлого века. Одним из событий стало обсуждение монументального архитектурного сооружения Тоголок-21, чему были посвящены материалы в ВДИ (Проблема..., 1989). Дискуссия по поводу гипотезы В. И. Сарианиди об идентификации Тоголока как зороастрийского храма привлекла многих археологов и историков. Гипотезам В. И. Сарианиди были предложены альтернативы. Эта дискуссия могла стать этапом в осмыслении находок, лавинообразно умножающихся в результате деятельности главы экспедиции. Однако к этому времени основы его позиции уже сформировались, и обсуждение не имело последствий, которых можно было ждать.
На протяжении многих лет В. И. Сарианиди раскапывал самые заметные и информативные памятники на Гонур Депе, признаки которых он умел с необычайным чутьем распознавать. Среди них были монументальные постройки, как он полагал, «храмы» огня и хаомы; «царские гробницы» с изображениями на стенах, необычайно богатым инвентарем; многочисленные ритуальные вещи, драгоценные сосуды с изображениями и т. д. В анализе всех этих удивительных находок он придерживался четкой линии: рассматривал их как свидетельства свойственных их создателям зороастрийских или «протозороастрийских» представлений, в том числе основополагающих – о борьбе добра и зла. Он упорно искал и находил в особенностях погребального обряда специфически зороаст-рийские признаки и т. д. Он считал комплексы параллельно расположенных узких помещений кельями зороастрийских аскетов. (Обособленный комплекс такого рода обнаружен на территории «дворца» в Гонур Депе.) Его не смущало, что подобные им на всем Востоке, включая Крит, считали складами ( Amiet , 1986. P. 194). Кстати, такое определение не противоречило определению назначения построек с «кельями» как обрядовых. В частности, на Тоголоке-21, где было много таких конструкций, обнаружены следы отправления ритуалов, в том числе множество таинственных каменных «миниатюрных колонок». Эти тяжелые, явно ритуальные, вещи, изготовление которых наверняка было трудоемким, вероятно, служили своего рода алтарями (в дальнейшем я представлю кажущуюся мне убедительной аргументацию).
В одной из своих итоговых работ В. И. Сарианиди писал: «…пришедшие в конце III до н. э. в древнюю дельту р. Мургаб племена принесли вместе с собой существовавшие у них верования и ритуалы, которые они практиковали на своей былой родине. Все эти культы по отдельности, бесспорно, были известны другим земледельческо-скотоводческим племенам древности, но все вместе они, как кажется, столь ярко выражены только у индоиранских арийских племен и теперь у маргушцев» (Сарианиди, 2010. С. 57). Как выглядели культы «индои- ранских арийских племен» остается по-прежнему неясным, несмотря на усилия многих по-разному идеологически ориентированных исследователей. Столь же не выявлены «четкие следы» арийцев в Аккадском государстве и Эламе, а Ми-танни не было, как установлено, арийским государством. Ссылка на старую работу В. Г. Чайлда не служит весомой поддержкой (Сарианиди, 2010. С. 17).
Работы В. И. Сарианиди, энтузиаста-поисковика и талантливого полевого археолога (недаром его сравнивают с Г. Шлиманом), показывают, насколько актуальна в отечественной археологии проблема методов интерпретации материальных свидетельств. Они все еще не стали важной составляющей частью публикаций, а не довеском к главному разделу – сообщению о новых находках. Для того чтобы вещи стали полноценными источниками, методы интерпретаций важны не менее, чем методика раскопок.
П. Амье на основании интерпретации тех же сооружений, которые В. И. Са-рианиди считал храмами, пришел к совершенно иным выводам о формировании культуры Бактрии и Маргианы бронзового века. Он считал, что возникновение поселений значительного размера было результатом освоения оазисов купцами, торговавшими на далеких путях. Он предполагал, что в начале II тыс. до н. э. из Средней Азии они могли доходить до Китая – в Сапаллитепа найден кусочек шелковой ткани ( Amiet , 1986. Р. 199). Как модель он рассматривал организацию месопотамских, в основном староассирийских, колоний-карумов, распространившихся в конце II тыс. до н. э. в Анатолии и отчасти Сирии. Кстати, необычайное обилие, богатство и разнообразие привозных вещей в Маргиане было бы естественно объяснить именно развитием международной торговли, а не появлением мигрантов, несущих с собой свой скарб.
Об обрядах цивилизации Окса целесообразно говорить, начав с предположений о ее генезисе. Могли ли пришельцы с запада и/или с юго-востока коренным образом изменить традиции, сложившиеся на юге Туркменистана и в культурно близких регионах, бытовавшие здесь на протяжении более трех тысячелетий? Были ли вообще тогда в этой части Азии такие массовые перемещения? Короче, как связана анауская культура подгорной полосы Копет Дага с поселениями Маргианы? В свое время я посвятила этой проблеме статью ( Антонова , 2009); к ней добавлю то, что касается обрядов.
Общие положения о закономерностях формирования ранних оседлоземледельческих сообществ, как и конкретный археологический материал, явно противоречат тому, что субстратом «маргушцев» были не переселенцы из подгорной полосы Копет Дага, а пришельцы издалека. Иссушение климата могло привести в обводненные примургабские области и более далеких пришельцев из Внешнего Ирана, но вряд ли большие группы из отдаленных регионов. «Анаусцы» и их соседи, по всей вероятности, и составили здесь основу носителей той местной низовой культуры, которая явилась хранительницей традиции.
О появлении пришельцев на новых для них землях могут свидетельствовать своеобразные крепостеобразные обводные сооружения поселений Сапаллитепа (юг Узбекистана) и Дашлы 3 (север Афганистана) (Amiet, 1986. P. 310). Двойные стены образуют квадрат с пристроенными к ним и к углам коридорами. На Са-паллитепа таких коридоров восемь, они расположены параллельно основным стенам и смещены так, что основной квадрат и пристройки создают свастикооб- разную композицию. На Дашлы от каждой двойной стены отходят Т-образные коридоры, а от углов – по паре Г-образных, так что создается композиция, напоминающая орнаментальный мотив «ромб с крючками» плюс перпендикулярные Т-образные коридоры у стен. Коридоры (которые сообщались проходами с внутренним пространством) образовывали в обоих поселениях восьмичленную композицию вокруг центрального квадрата. Кроме того, внутренняя застройка Сапаллитепа состоит из восьми комплексов.
Могли ли такие конструкции служить оборонительным целям? Хотя организация местного военного дела в ту пору неизвестна, это представляется маловероятным. Однако такая планировка напоминает мандалу, на что уже указывалось ( Brentjes , 1981. S. 12–15). Мандала – космограмма, особенно детально разработанная в буддизме, хотя подобные ей распространены очень широко. Она относится к геометрическим символам организованного пространства и известна не только историкам и религиоведам, но и психоаналитикам ( Топоров , 1992. С. 100, 101).
Примечательно, что планировка Сапаллитепа сходна со свастикой, т. е. динамичной, движущейся фигурой. Вероятно, представление о подвижности образа мира было одной из важных его характеристик у обитателей интересующего нас региона. Поэтому, вероятно, свастикообразные фигуры, как и разнообразные вихревые розетки (в том числе составленные из животных), так широко представлены в цивилизации Окса. К подвижным мотивам надо причислить орнаментальные плетенки на вещах, а также оформление ободка печатей-штампов в виде витого жгута, образующего тоже подвижную фигуру ( Антонова , 2005).
По-разному переданный образ мира – универсальный оберег. Можно полагать, что укрепления на прежде не освоенных землях служили целям магической и, быть может, отчасти физической обороны (одна без другой не была возможна). Придя на новые земли, поселенцы должны были обезопасить себя от всех напастей. Для этого надо было «космизировать», сакральным образом упорядочить жилое пространство, отделить «свое» от «чужого»: «Чтобы жить в этом мире, его нужно основать» ( Элиаде , 2002. С. 43).
Проследить признаки соотнесения плана построек с образом мира, если они не имеют особых признаков, удается отнюдь не всегда. Тем не менее, такая связь должна была реализоваться, так как строительство без соответствующих процедур в традиционных культурах не могло состояться. Наверняка этим целям служили ритуалы и словесные тексты, не оставившие следов. В архитектуре цивилизации Окса известны примеры такой соотнесенности, хотя и не столь выразительные, как в Сапаллитепа. Один из них – небольшое поселение Го-нур 21 близ Гонур Депе (Сарианиди, Дубова, 2012. С. 43 сл.). Внутри квадратной крепостной ограды с входом с севера (это направление света особенно отмечено у «маргушцев»: на север были ориентированы входы наиболее значимых построек в Маргиане и систематически ориентированы захоронения). Кстати, Ф. Грене отметил, что северная ориентировка входа невозможна для зороаст-рийского святилища, поскольку эта сторона ассоциировалась с дэвами. Однако положительные ассоциации севера присущи индийской традиции (Грене, 1989. С. 170). По углам Гонура 21 было расположено четыре жилых комплекса. Акцентировка четырех или восьми составляющих элементов пространства была одной из основополагающих в образе мира носителей цивилизации Окса, как и у оседлых земледельцев вообще. Истоки этого мотива, сочетающегося с крестом, кругом, геометризованными растениями, прослеживаются в анауской культуре с энеолитического времени. Эти орнаменты продолжают бытовать в эпоху бронзы, когда при исчезновении геометрических узоров на сосудах меняются визуальные воплощения тех же образов. Они перемещаются на печати-штампы и антропоморфные фигурки семейно-родовых покровителей (в основном женского пола).
Известно множество металлических, реже каменных, печатей-штампов, вероятно, значительно более 2000. При этом большая их часть геометрические ( Sarianidi , 1998. Р. 23–47). Это – признак архаичности культуры; в Месопотамии и тесно связанных с ней областях в это время печати были цилиндрическими с многофигурными антропо- и зооморфными изображениями. На территории Внешнего Ирана такие тоже бытовали, хотя их относительно немного.
Печати строятся на основе мотивов, тяготеющих к форме круга, усложненного креста, ромба, многолучевых розеток ( Антонова , 2010). Обычно они имеют выделенный центр, часто – дополнительные элементы, придающие им вид геометризо-ванного растения. Сочетание геометрической фигуры и условно переданного растения очень многочисленны, что, конечно, не было случайным. При многообразии разновидностей композиций выделяются исходные и доминиующие мотивы, крестообразные и восьмиконечные, остальные являются от них производными. Эти печати были не только и не столько знаками собственности в современном смысле, сколько амулетами. Их носили люди разных статусов, в особенности женщины (даже у очевидно бедной погребенной в «царской» гробнице была простенькая крестообразная печать). Обладая такими вещами, «анаусцы» и «маргианцы» обретали устойчивость, соотнося себя (микрокосм) с образом мира (макрокосмом). Воплощение этой универсальной черты мировосприятия в разных культурах отличалось своеобразием, поэтому изучение конкретных их выражений в разных регионах и с различными традициями нельзя считать бесполезным.
В анауской культуре эпохи средней бронзы распространяются глиняные фигурки, плоские, крестообразной формы, происходящие от более ранних сидящих, но теперь они становятся стоящими. Поза подчеркивается изображениями растения и растительными мотивами, расположением ромбических фигур и их элементов. Очертания и детали указывают на отождествление женских (реже мужских) образов с геометризованной моделью мира. Такая близость антропоморфного образа с моделью мира характерна для обществ с устным типом передачи информации, где семантические цепочки были относительно короткими, почему мифологические образцы передавались во всей недифференцированной полноте. О подобной ситуации применительно к фольклору писал С. Ю. Неклюдов: народная словесность не знает изолированных областей и проникнута «теснейшими связями самого разного типа – благодаря известной однородности, клишированности и стереотипности, а также непрерывности своего развития при традиционном сохранении прежних систем. За какую нить клубка ни потяни – всегда доберешься до его середины» ( Неклюдов , 1977. С. 193).
Весьма знаменательно, что в Маргиане женские статуэтки, явно генетически связанные с анаускими, были найдены В. И. Сарианиди во многих пунктах
Маргианы при широких разведочных работах. На них продолжали наносить знаки в виде «дерева» и геометрических фигур, хотя не столь систематично, как в период Намазга V ( Сарианиди , 1990. Табл. XVI–XXII, LXXVIII). Не менее примечательно, что глиняные фигурки такого типа, хотя и с неизбежными модификациями, найдены при раскопках «столичного Гонура». В частности, они обнаружены в мастерской металлурга ( Дубова , 2008. С. 98). Глиняная фигурка найдена в цисте № 3155 с множеством вещей, в том числе из слоновой кости. Несмотря на новые детали оформления и «интернациональный» набор инвентаря, она была положена в руку женщины ( Сарианиди , 2006. С. 191). Подобные случаи помещения фигурок покровительниц в руках умерших женщин известны в анауской культуре ( Антонова , 1990. С. 154).
Оформление глиняных фигурок анауской традиции позволяет обратиться к восприятию образа реальной женщины у их создателей. Облик мифических покровительниц преломлялся, как это было всегда, через внешность живых женщин, вероятно, высокого статуса. Весьма вероятно, что в обрядовых ситуациях женщины выступали с деталями одежды (поясами, украшениями – бусами, серьгами, венками), а также прическами, какие были у статуэток. Указания на отождествление женщины с растением не вызывает сомнений. Подтверждение этому можно видеть в богатейших уборах, обнаруженных в царском некрополе Ура «царицы» Пуаби и сопровождающих ее женщин. Головные уборы из драгоценных металлов, многорядные украшения из цветных камней должны были уподобить их плодоносным растениям и не менее благодатным, породившим мифологические растения, горам ( Антонова, Колганова , 2013. С. 111–115). Каменные и металлические бусы, иногда очень многочисленные, многорядные, находят на Гонуре в погребениях женщин, хотя бусы, будучи оберегами, были и у мужчин и ритуальных заместителей людей – баранов и других жертвенных животных.
Итак, в погребениях некрополя Гонура и на самом поселении находят глиняные фигурки, восходящие к анауским – традиция почитать их в семейно-родовых коллективах сохраняется. Но появляются каменные составные фигурки, происходящие, по мнению П. Амье, от изображений эламских цариц первых веков II тыс. до н. э. Они изображены сидящими с головами и руками из белого и одеждами из темного камня (одежды – характерные «каунакесы»). Подобные им, как заметил П. Амье, в Иране, как и в Месопотамии, помещали в храмы, а в Бактрии – в погребения ( Amiet , 1986. P. 200). То же имело место в Мар-гиане.
Каменные статуэтки – принадлежность не низовой, как глиняные, а элитарной культуры. Элита обращается к чужеземным образцам в поисках новых объектов почитания, соответствующих состоянию общества. Изготавливали такие скульптуры профессиональные ювелиры, на что есть указания в инвентаре одного погребения (Сарианиди, 2001. С. 71, 72). Женские мифологические персонажи более высокого статуса, богини, судя по многофигурным композициям на немногих цилиндрических печатях (аналогичные известны в Шахдаде и Тепе Яхье), были связаны с растениями и животными, они наделены цветущими растениями и рогами. Вероятно, их почитали во время весенних обрядов. Примечательно, что рядом с божествами изображали лежащего на подогнутых ногах козла, поза которого указывает, вероятно, на его жертвенное предназначение (Крюкова, 2012. С. 224).
В. Ю. Крюкова приводит обширные данные о почитании богинь и весенних цветов, в первую очередь тюльпанов, в Средней Азии начиная с эпохи бронзы и до этнографически зафиксированной реальности (Там же. С. 234 сл.). Это сходство отнюдь не означает, что создатели цивилизации Окса были ираноязычными и/или зороастрийцами. Весенние обряды относятся к сезонным, которые в одинаковых климатических зонах и в общностях, принадлежащих к одному хозяйственно-культурному типу, очень похожи. О существовании весенних обрядов и важности празднеств именно этого времени позволяют судить вещи и других категорий – сосуды с налепными фигурками и печати с изображениями.
В. И. Сарианиди интерпретировал сосуды с фигурками в контексте верований иранцев и индийцев о соме-хаоме. В Тоголоке-21 таких сосудов было найдено около 10. В одной из своих статей, описывая фигурки на сосудах, он не рассматривает наиболее характерную особенность состава композиций ( Са-рианиди , 1989. С. 164). На венчиках изображены наземные животные (несмотря на условность, в некоторых случаях удается определить, что они находятся в напряженном взаимодействии, хотя эти позы можно толковать по-разному). К их животам изнутри и снаружи тянутся извивающиеся по стенкам змеи; изображены также лягушки. Но его внимание привлекли редко встречающиеся пары антропоморфных фигурок, которые он считал центральными. По его мнению, они отсылали к мифу об обожествлении растения сомы, порождения неба и земли. «Представляется заманчивым допустить, что… на фризах культовых сосудов нашло отражение содержание мифа», в котором отец-небо забирает у матери-земли их дитя и уносит его на небо. Для этого один из персонажей «делает подсечку другому», чтобы забрать к себе для обожествления «Сому-Хаому». Сами сосуды такого типа он считал предназначенными для разливания сока типы хао-мы, который изготавливали в Тоголоке (а как же змеи и лягушки?).
Сосуды такого типа были, безусловно, ритуальными ( Антонова , 2004), и нахождение их на полу «помещений парадной части» Тоголока-21 – немаловажное обстоятельство. Не могло ли быть, что в этом монументальном комплексе (где было и множество пресловутых «келий аскетов», т. е. складов) происходили важные обряды по случаю его оставления? Такие обряды – распространенная традиция ( Антонова , 2013. С. 42 сл.). Тоголок-21 мог действительно быть обрядовым центром, где собирались обитатели окрестностей. Здесь хранились общие запасы (которые контролировало важное семейство?). Поэтому в пределах ограды и в самом здании были склады («кельи аскетов»).
Изображения на сосудах указывают на то, каким мог быть этот праздник. Мотив наземного животного и змеи в области его гениталий – примечательная черта изображений на печатях-амулетах Маргианы, и его привлечение для интерпретации символического значения и применения сосудов в ритуалах представляется естественным. Мало того, эти переклички способствуют определению одного из основополагающих моментов мировосприятия людей цивилизации Окса: взаимоотношение зон мира, хтонического и наземного, и времени, когда эта связь воспринималась как исключительно важная, как поворотный момент существования космоса. Вероятно, это была весна, когда пробуждались от спячки змеи и оживлялись влаголюбивые животные (вспомним и лягушек на сосудах), появлялся из-за южных гор перелетный орел-змееяд, цвели тюльпаны и другие растения, короче, мир обновлялся. Обряды с тюльпанами во время иранского навруза указываю на то, что время его проведения, весеннее солнцестояние, важнейший момент года, был издревле актуален для обитателей этих мест. Для весенних празднеств характерны разнообразные игры, борьба между животными и ритуальные игры людей. Поэтому сочетание в изображениях на ритуальных сосудах фигур животных и антропоморфных персонажей может объясняться контекстом этих празднеств, борьбой разных сил.
Сидячая поза изображенных на печатях растительных богинь – покровительниц растительного и животного мира, как и их атрибуты, предполагают их причастность земле. Вряд ли будет смелым предположение, что земля была важным (если не главным) объектом почитания. С ней так или иначе связывались воды и растения. К ней, источнику жизни, порождающей все живое и возрождающей к новой жизни, обращались все слои населения. То, что в ней хоронили умерших – не простая дань традиции. К этому источнику жизни, принимающей все живое и возрождающей к новой жизни, должны были обращаться и «верхи», обособленность которых от «низов» вряд ли была столь кардинальной, какой она стала уже в ранних государствах.
Одними их самых значимых для жизни обитателей Гонура были, судя по обнаруженным остаткам, ритуалы, связанные с погребениями, и поминальные обряды. Раскопан большой некрополь, погребения и состав инвентаря которого свидетельствуют о некотором различии социальных статусов и, возможно, о разном генезисе населения. Но особое место принадлежит так называемым «царским гробницам» на самом Гонуре. Эти компактно расположенные сооружения неоднократно публиковались (см. особенно: Дубова , 2004; Сарианиди , 2006). Многокамерные постройки в предварительно вырытых котлованах в некоторых случаях имели что-то вроде дворика, где размещали пары верблюдов и других упряжных животных, повозки, принесенных в жертву людей. Погребения в них множественные; для их совершения и, вероятно, поминальных ритуалов входы не заделывали наглухо, кирпичи у входов могли легко удаляться. Периодически обряды совершали около гробниц. Особенно выразительный пример – гробница № 3235, по четырем сторонам которой возжигались огни ( Сарианиди , 2006. С. 181 сл.). Примечательно, что все гробницы были ограблены, вероятно, вскоре после совершения захоронений. О «силе» стабильности «царской» власти говорит то, что ценные вещи сразу при погребении прятали в тайники; некоторые из них только благодаря этому дождались археологов.
Особый интерес представляют три больших котлована, близость которых к трем «царским» захоронениям вряд ли случайна (Дубова, 2012. С. 113–115). В них не было захоронений с богатым инвентарем, но в каждом была четырехколесная повозка, пара верблюдов, ослы, собаки и убитые люди. В одном из них (погр. № 3900) находился металлический котел объемом около 200 л. Скорее всего, они связаны с коллективными обрядами; В. И. Сарианиди считал, что они содержали инвентарь для проведения коллективного празднества и трапезы. Н. А. Дубова пошла дальше, предположив, что «каждый предмет… является символом какого-то явления» (Там же. С. 115). По всей вероятности, захоронения с жертвоприношениями людей и животных и обязательными повозками совершались во время общественных обрядов по каким-то важным, неизвестным нам, случаям. Расположение их около погребений знати («царей») можно считать указанием на поминальные ритуалы особенно значительных особ.
Самостоятельный интерес представляют захоронения животных, в особенности баранов. Эти как будто маргинальные данные дают много сведений, которые невозможно извлечь из погребений людей. Условия их захоронения и сопровождающий инвентарь (в него входят не только вещи обычные (например, сосуды), но и ценные и статусные) позволяют считать их ритуальными заместителями людей. То, что такие захоронения не подвергались систематическим ограблениям, позволяет определить назначение отдельных обрядовых вещей, обнаруженных в нарушенных контекстах.
Такие обряды, можно предположить, в ту эпоху скорее были присущи скотоводам, чем земледельцам. Гонурцы были земледельцами, хотя и разводили скот, в первую очередь – мелкий. В то же время кочевые или полукочевые скотоводы были соседями носителей цивилизации Окса и могли играть роль в ее создании (еще раз можно вспомнить исследования П. Амье о земледельческо-скотоводческой горско-ремесленной и городской, синтетической цивилизации Ирана). Возможностью оседания на землю степных скотоводов он предложил объяснить резкий подъем культуры Бактрии и Маргианы, что не могло произойти без роста населения ( Amiet , 1986. P. 206).
Существование БМАК, т. е. верхушечного образования в среде, восходящей к отдаленному прошлому автохтонной культуры, на территории Маргианы и Бактрии завершилось около XVII в. до н. э. из-за разрушения сложной системы межрегиональных взаимосвязей. Однако древняя низовая традиция продолжала существовать, вероятно, сохраняя и новые элементы эпохи процветания, порожденной связями на далекие расстояния, на долгие времена.
Список литературы Об обрядах создателей «цивилизации Окса»
- Антонова Е. В., 1990. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. М.: Гл. ред. вост. литературы. 285 с.
- Антонова Е. В., 2004. Еще раз о культовых сосудах БМАК//У истоков цивилизации/Ред. М. Ф. Косарев, П. М. Кожин, Н. А. Дубова. М.: Старый сад. С. 193-201.
- Антонова E.В., 2005. К интерпретации жгутовидных мотивов на вещах Бактрийско-маргианского археологического комплекса//ВДИ. № 1. С. 194-208.
- Антонова Е. В., 2009. К проблеме формирования Бактрийско-Маргианского Археологического Комплекса//КСИА. Вып. 223. С. 202-223.
- Антонова Е. В., 2010. О геометрических фигурах анауской культуры и БМАК//На пути открытия цивилизации: Сб. ст. к 80-летию В. И. Сарианиди/Ред. П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова. СПб.: Алетейя. С. 303-312.
- Антонова Е. В., 2013. О символизации жилища//Текст Контекст Подтекст: Сб. в честь М. Н. Погребовой/Ред. Г Ю. Колганова. М.: Ин-т востоковедения РАН. С. 34-57.
- Антонова Е. В., Колганова Г. Ю., 2013. К реконструкции символики цветных минералов и цвета в культуре Древнего Востока//Последний энциклопедист: к юбилею со дня рожд. Б. А. Литвинского/Ред. Г. Ю. Колганова, А. А. Петрова, С. В. Кулланда. М.: Ин-т востоковедения РАН. С. 102-120.
- Грене Ф, 1989. Некоторые замечания о корнях зороастризма в Средней Азии//ВДИ. № 1. С. 170-171.
- Дубова Н. А., 2004. Могильник и царский некрополь на берегах большого бассейна Северного Гонура//У истоков цивилизации/Ред. М. Ф. Косарев, П. М. Кожин, Н. А. Дубова. М.: Старый сад. С. 254-281.
- Дубова Н. А., 2008. Мастерская по производству сплавов на основе меди Северного Гонура (западная часть раскопа 9)//ТМАЭ/Ред. В. И. Сарианиди, П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова. Т. 2. М.: Старый сад. С. 94-104.
- Дубова Н. А., 2012. Погребения животных в стране Маргуш//ТМАЭ/Ред. В. И. Сарианиди, П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова. Т. 4: Исследования Гонур Депе в 2008-2011 гг. М.: Старый сад. С. 101-139.
- Крюкова В. Ю., 2012. О гонурских тюльпанах//ТМАЭ/Ред. В. И. Сарианиди, П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова. Т. 4: Исследования Гонур Депе в 2008-2011 гг. М.: Старый Сад. С. 222-237.
- Неклюдов С. Ю., 1977. О функционально-семантической природе знака в повествовательном фольклоре//Семиотика и художественное творчество/Отв. ред. Ю. Я. Барабаш. М.: Наука. С. 193-228.
- Новик Е. С., 1984. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме (Опыт сопоставления структур). М.: Гл. ред. вост. литературы. 303 с. Проблема.., 1989 -Проблема возникновения зороастризма в Средней Азии//ВДИ. № 1. С. 151-181; № 2. С. 170-181.
- Сарианиди В. И., 1989. Протозороастрийский храм в Маргиане и проблема возникновения зороастризма//ВДИ. № 1. С. 152-169.
- Сарианиди В. И., 1990. Древности страны Маргуш. Ашхабад: Ылым. 313 с.
- Сарианиди В. И., 2001. Некрополь Гонура и иранское язычество. М.: Мир-медиа. 243 с.
- Сарианиди В. И., 2006. Царский некрополь на Северном Гонуре//ВДИ. № 2. С. 155-192.
- Сарианиди В. И., 2010. Задолго до Заратуштры (Археологические доказательства протозороастризма в Бактрии и Маргиане). М.: Старый сад. 147 с.
- Сарианиди В. И., Дубова Н. А., 2012. Археологические работы Маргианской археологической экспедиции в 2008-2010 гг.//Труды Маргианской археологической экспедиции/Ред. В. И. Сарианиди, П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова. Т. 4. М.: Старый сад. С. 29-63.
- Топоров В. Н., 1992. Мандала//Мифы народов мира. Т. 2. М.: Советская энциклопедия. С. 100-102.
- Элиаде М., 2002. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев: София; М.: Гелиос. 221 с.
- Amiet P., 1986. L'âge des échanges inter-iraniens 3500-1700 avant J.-C. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux. 332 р.
- Brentjes B., 1981. Die Stadt des Yima. Leipzig: E. A. Seemann. 96 S.
- Sarianidi V., 1998. Myths of Ancient Bactria and Margiana on its Seals and Amulets. Moscow: Pentagraphic. 335 p.