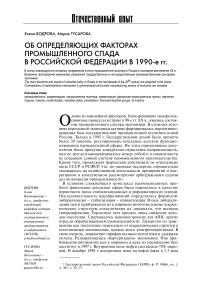Об определяющих факторах промышленного спада в Российской Федерации в 1990-е гг
Автор: Бодрова Елена Владимировна, Гусарова Мария Николаевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 7, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные направления и итоги промышленной политики в России в последнее десятилетие ХХ в. Выявлены противоречия механизма управления государственным и негосударственным производственными секторами экономики.
Промышленность, модернизация, промышленная политика, приватизация, финансово-промышленные группы
Короткий адрес: https://sciup.org/170167046
IDR: 170167046
Текст научной статьи Об определяющих факторах промышленного спада в Российской Федерации в 1990-е гг
О дним из важнейших факторов, блокировавших модернизационные процессы в стране в 90-е гг. ХХ в., явилось состояние промышленного сектора экономики. В сложных условиях переходной экономики активно формировалась нормативноправовая база государственной промышленной политики новой России. Только в 1995 г. Государственной думой было принято более 30 законов, регулирующих отдельные аспекты функционирования промышленной сферы. Но этим нормативным документам была присуща конкретная отраслевая направленность, они не всегда взаимоувязывались между собой и в совокупности не создавали единую систему промышленного законодательства. Кроме того, продолжали формально действовать не отмененные акты СССР и РСФСР, что, по оценкам экспертов, отрицательно сказывалось на хозяйственной деятельности предприятий и оперативном и качественном рассмотрении арбитражными судами дел по вопросам промышленности1.
БОДРОВА Елена
В условиях сложнейшего комплекса взаимосвязанных проблем финансово-денежная сфера была определена в качестве первичного звена стабилизационных и реформаторских усилий. Последовательность преобразований определялась формулой: либерализация – стабилизация – приватизация. В ходе либерализации цен и приближения их к мировым многочисленные посреднические структуры спекулятивно их завышали, что вызвало гиперинфляцию. Тормозило этот процесс лишь снижение доходов населения. Свертывалось машиностроение для АПК, другие отрасли обрабатывающей промышленности. Лидерство по завышению цен постепенно переходило от посреднических структур к естественным монополиям, прежде всего электроэнергетикам. В свою очередь, завышение тарифов вызвало неплатежи и задержки оплаты. Разворачивалась «бартеризация» экономики. Пик приближения внутренних цен к мировым и даже их превышение был достигнут в 1997 г. Внутренняя цена нефти составляла 70% мировой. В декабре 1998 г. внутренняя цена на нефть была в 3,3 раза ниже, чем экспортная. В декабре 1999 г. разрыв сократился до 2,5 раз, т.е. оставался значительным1.
В первое десятилетие истории постсоветской России кризис затронул нефтяную отрасль промышленности. К числу факторов, обусловивших его развитие, следует отнести неблагоприятную для России исторически сложившуюся географическую инфраструктуру, когда нефтеперерабатывающие заводы были построены в основном вне границ РСФСР, а наиболее значительные бюджетные инвестиции, начиная с середины 1980-х гг., направлялись на развитие крупнейшего Тенгизского месторождения в Казахстане; неразрешенность социальных проблем; недостаточное развитие инфраструктуры в нефтедобывающих регионах; невыполнение в течение многих лет принятых решений по техническому перевооружению отрасли; подмену науки конъюнктурными «политическими» соображениями, интенсивный отбор нефти в ущерб рациональной разработке нефтяных месторождений; удешевление нефтедобычи без адекватного обоснования инженерных проблем нефтедобычи, охраны недр, решения экологических проблем; отсутствие специальной государственной программы потребления нефти и нефтепродуктов на дальнюю перспективу; непродуманное и нерачительное использование валютных средств, вырученных от продажи нефти, что не способствовало решению основных задач модернизации2. В этот крайне сложный период слома прежней системы управления экономикой, перехода к рыночным отношениям нефтяная промышленность пережила обвал производства. Если в 1992 г. добыча нефти в России составляла 399 млн т, то в 1995 г. она приблизилась к порогу энергетической безопасности страны – 307 млн т (данный порог определяется в 300 млн т). Коэффициент извлечения нефти с 1990 по 2000 г. еще более снизился по сравнению с советским периодом – с 0,39 до 0,31, в то время как в мире он в эти годы увеличился и превысил 0,5. Около 40% нефти к концу 1990-х гг. добывалось из нерентабельных, малодебетных скважин3. Реструктуризация отрасли явилась реакцией на отраслевой кризис.
Особенностью первых этапов приватизации в промышленной сфере являлось отсутствие необходимых основных законодательных актов. Поэтому прибыль могла присваиваться руководством предприятий, осуществлялся перевод активов в организуемые при них кооперативы, учреждались холдинги и система перекрестного участия предприятий в собственности. Большая часть акций распространялась среди трудовых коллективов, причем с множеством нарушений. Отсутствие четких нормативно-правовых документов привело к тому, что акции компаний сосредоточивались в руках руководства предприятий. Производственные объединения промышленности подлежали продаже по заниженной стоимости. Многие предприятия содержали социальные объекты, имели задолженности, одновременно значительно увеличивались местные налоги. А в подобных условиях невозможны никакие долгосрочные инвестиции. Лишенные активов предприятия не могли закупить даже сырье, что нередко приводило к остановке производства. Таким образом, структура собственности была изменена, но государство оставило за собой право контроля над приватизированными предприятиями, сохраняя контрольные пакеты акций. Акционерная форма стала доминирующей на российском рынке4.
В 1990-х гг. произошло также резкое снижение темпов производства продукции в машиностроении, металлообработке и химической отрасли. Многие предприятия оказались нерентабельными, фактически находились на грани банкротства. Другие переходили на выпуск непрофильной продукции, сложное производство останавливалось, значительно сокращались работы по техническому перевоору- жению производства, уменьшилось число квалифицированных специалистов, распадалась отраслевая наука. Индекс физического объема продукции по всем отраслям промышленности в 1996 г. составил 47,5% аналогичного показателя 1989 г.1 Кратковременные и незначительные успехи второй половины 1990-х гг. рассеял дефолт 1998 г.
Открытый внутренний рынок неконкурентоспособного национального хозяйства ограничил спрос на продукцию обрабатывающего сектора российской экономики, не прошедшего технологическую модернизацию и оказавшегося в условиях острого финансового голода. Широкомасштабная приватизация первой половины 1990-х гг. законсервировала неконкурентоспособную для условий открытой экономики организационную структуру отечественных машиностроительных производств. Оказалась дезинтегрированной и утратила связь с серийным производством система отраслевых технологических центров (отраслевые НИИ, ОКБ, опытные производства), которые приобрели статус самостоятельных хозяйственных структур2.
Выжить в тяжелых условиях переходного периода части российских предприятий позволяли международные стратегические альянсы. Одновременно доступ к знаниям и технологиям обеспечивал модернизацию предприятий в ряде ключевых отраслей (авиа- и автомобилестроение, телекоммуникации, пищевая, химическая промышленность). В виде совместных предприятий подобные альянсы появились в начале 1990-х гг. Только в 1991 г. было создано более 2 тыс. совместных предприятий с компаниями более чем из 60 стран мира3. Но альянсы в форме совместных предприятий оказались во многом неравноправными для российских предприятий, т.к. создавались для менее затратного вхождения зарубежных компаний на российский рынок. Как только «отлаживались» основные бизнес-процессы, потребность в российском партнере отпадала, предприятие либо поглощалось, либо отношения прерывались. Формировались подобные структуры в этот период и на внутреннем рынке – так называемые холдинги. Становление крупных интегрированных структур первоначально происходило в нефтяной промышленности, затем этот процесс распространялся на другие отрасли. В середине 1990-х гг. часть холдингов организовывалась через разукрупнение предприятий, дочерних структур, другая – через покупку предприятий. Инициатива правительства по созданию холдинговых структур в жизнеобеспечивающих и, прежде всего, экспортоориентированных отраслях обусловила возникновение крупных бизнес-групп, наиболее значительными из которых стали РАО ЕЭС России, Газпром, ЮКОС и ЛУКОЙЛ.
Курс на формирование в российской экономике крупных интегрированных структур с участием банковского и промышленного капитала был взят в 1993 г. Это, как отмечалось в докладе Государственного комитета РФ по промышленной политике для правительства РФ, явилось одним из приоритетных направлений структурных преобразований отечественной промышленности4. В 1994 г. в стране действовали 7 финансовопромышленных групп, в 1995 – 21, в 1996 г. – 46, в 1999 г. – уже 87. Крупнейшие финансово-промышленные группы к 1998 г. контролировали почти треть ВВП России, более 80% государственных активов, средств предприятий, депозитов и бюджетных ресурсов5.
В период с середины 1990-х гг. до 1998 гг., традиционно определяемый как «олигархический», сложился крупный частный сектор экономики в торговле, в финансовой сфере, в сырьевых отраслях. Механизмом его формирования явились залоговые аукционы 1995–1996 гг. Государственные пакеты акций самых успешных, прибыльных, ориентированных на экспорт предприятий страны были проданы влиятельным российским банкам по ценам менее 1 млрд руб. Действительная их цена была выше в разы. Так, напри- мер, 5% акций ЛУКОЙЛа были проданы за 35 млн долл., но в реальных рыночных ценах они оценивались в 700 млн долл. Через год их стоимость превысила 15 млрд долл. 45% акций ЮКОСа были проданы за 159 млн долл., год спустя рыночная стоимость акций составила 6 млрд долл. Контрольный пакет акций «Норильского никеля», проданный на аукционе в конце 1995 г., к лету 1997 г. вырос до 1890 млн руб.1 Экспертная оценка капитализации нефтяных компаний за период, предшествующий началу проведения залоговых аукционов, свидетельствует о том, что упущенная выгода из-за недооценки акций нефтяных компаний составила 95,7–423,2 млрд долл.2
Нельзя не согласиться с тем, что залоговые аукционы имели для страны катастрофические последствия. И дело не только в том, что страна лишилась предприятий, обеспечивавших наибольшие поступления в бюджет, произошло новое теневое перераспределение госсобственности в пользу узкого круга лиц, стремившихся лишь к извлечению максимальной прибыли и обогащению. Залоговые аукционы явились свидетельством нарождавшегося тогда негласного политического и экономического альянса власти и группы финансовых монополистов3.
Этот процесс не обеспечивал экономическую стабильность, а стал временем взаимопроникновения финансовой и политической элит. Курс был «успешно» реализован: за 1993–1998 гг. удельный вес государственного сектора в промышленности упал в 4,3 раза, достигнув предельно низкой отметки в 8,9%4. Доля предприятий, находящихся в государственной собственности, в общем объеме промышленной продукции осталась более высокой в машиностроении и металлообработке (17,2%), химической и нефтехимической промышленности (10,4%), электроэнергетике (8,9%). К началу 1998 г. в государственной форме собственности находилось только каждое сорок третье предприятие, на долю которых приходилось около 8% общепромышленного производства5.
По замыслу государственных руководителей сокращение государственного сектора экономики не должно было создать проблемы для управления, но случилось прямо противоположное. За 90-е гг. XX в. государство так и не смогло наладить систему эффективного управления ни государственным, ни негосударственным (частным) сектором. Более того, существуют расчеты, свидетельствующие о том, что кризис, который охватил промышленный госсектор России в 1990-е гг., был в значительной мере искусственным, спровоцированнымошибочнойгосударст-венной политикой и его «насильственным дроблением»6.
Таким образом, переход от системы управления народным хозяйством, основанной на государственном планировании и жестком регулировании народнохозяйственных связей, к управлению с использованием рыночных механизмов произошел без всякой адаптации промышленных предприятий к новым условиям хозяйствования. Он сопровождался непродуманной государственной политикой в этой сфере. Причинами резкого спада производства стали либерализация цен, сокращение госзаказов, ограничение спроса из-за усилившейся конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей и др.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №13-01-00065.