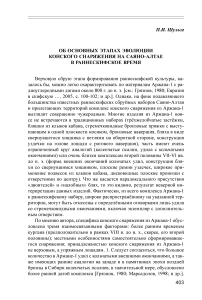Об основных этапах эволюции конского снаряжения на Саяно-Алтае в раннескифское время
Автор: Шульга П.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XIII, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521372
IDR: 14521372
Текст статьи Об основных этапах эволюции конского снаряжения на Саяно-Алтае в раннескифское время
Верховую сбрую этапа формирования раннескифской культуры, казалось бы, можно легко охарактеризовать по материалам Аржана-1 с радиоуглеродными датами около 800 г. до н. э. [см.: Грязнов, 1980; Евразия в скифскую …, 2005, с. 100-102; и др.]. Однако, на фоне подавляющего большинства известных раннескифских сбруйных наборов Саяно-Алтая и прилегающих территорий комплекс конского снаряжения из Аржана-1 выглядит совершенно чужеродным. Многие изделия из Аржана-1 вовсе не встречаются в традиционных наборах (трёхжелобчатые застёжки, бляшки из клыков кабана, стремечковидные бронзовые пряжки с выступающим в одной плоскости носиком, бронзовые навершия, бляха в виде свернувшегося хищника с петлями на оборотной стороне, конструкция уздечки на голове лошади с рогового навершия), часть имеют очень ограниченный круг аналогий (коленчатые псалии, удила с кольчатыми окончаниями) или очень близки комплексам второй половины VII-VI вв. до н. э. (форма внешних окончаний кольчатых удил, конструкция бляхи со свернувшимся хищником, плоские ремни уздечек, широкое применение подвесок из клыков кабана, дисковидные плоские пронизки с отверстиями по центру). Что же касается парадоксального присутствия «двоителей» и «налобных» блях, то это видимо, результат неверной интерпретации данных изделий. Фактически, из всего комплекса Аржана-1 к раннескифскому набору, широко распространённому на указанной территории, могут быть отнесены с определёнными оговорками лишь удила со стремечковидными окончаниями, включая экземпляр с дополнительным отверстием.
По мнению автора, специфика конского снаряжения из Аржана-1 обусловлена тремя взаимосвязанными факторами: более ранним временем кургана (предположительно в рамках VIII в. до н. э., скорее, его второй половины); местными особенностями самостоятельно сформировавшегося снаряжения; принадлежностью конского снаряжения из Аржана-1 не верховым, а упряжным лошадям. 1. Следует согласиться, что большое количество в Аржане-1 удил с кольчатыми внешними окончаниями, а также имеющих ранние аналогии на западе и в памятниках эпохи поздней бронзы в Сибири коленчатых псалиев, в значительной мере, обусловлено более ранней датой комплекса [Грязнов, 1980; Марсадолов, 1998; и др.].
Отсутствие у аржанских уздечек какой-либо бронзовой фурнитуры и малое количество функциональных деталей из рога (кости) также, видимо, указывает на близость традициям эпохи поздней бронзы и начала переходного времени. 2. Причиной нестандартности аржанского комплекса является и этнокультурная специфика самого памятника. Очевидно, в Аржане-1 мы фиксируем самостоятельно сложившееся в восточных областях (включая Минусинскую котловину) конское снаряжение, которое попало в курган ещё до распространения в VII в. до н. э. сбруи сако-майэмирского облика. Ярким примером наличия в Туве особых традиций является изображение уздечки неизвестной конструкции на роговом на-вершии из Аржана-1 [Грязнов, 1980, рис. 15]. 3. Специфичность конского снаряжения в Аржане-1 в значительной степени объясняется его вероятной принадлежностью не к верховым, а упряжным лошадям. Как уже отмечалась [Шульга, 2005], почти все лошади в Аржане-1 и Аржане-2 имели только уздечки, а сами уздечные наборы отличаются простотой и однообразием, как и в последующее время (Пазырык-5). Однотипность наборов упряжных лошадей отмечается в раннескифское время и на Северном Кавказе [Петренко, 2006, с. 68, 81]. Помимо уздечной фурнитуры, в конских погребениях Аржана-1 были найдены обычно применяемые на поясах застёжки с перехватом и трёхжелобчатые, которые, вероятно, также могут маркировать упряжь, как в Сентелеке [Шульга, Дёмин и др., 2003]. Особое место в аржанском снаряжении занимают бронзовые навершия из конского погребения в камере 26 [Грязнов, 1980, рис. 25]. По осторожному предположению Д.Г. Савинова они могли относиться к погребениям с колесницами [Савинов, 2002, с. 65]. Действительно, в снаряжении верховых лошадей такие изделия нигде не встречаются, но различного рода навершия известны в относимых к колесницам комплексах VII в. до н. э. на Северном Кавказе [Галанина, 1997, с. 162; Петренко, 2006, с. 68-82]. Оттуда же происходят и пряжки с выступающим в одной плоскости носиком [Петренко, 2006, с. 71].
Так или иначе, но устройство уздечек упряжных и верховых лошадей принципиальных отличий, как правило, не имело, что позволяет использовать материалы Аржана-1 для характеристики верховой сбруи начального этапа раннескифской культуры. Основу уздечки составляли трёхдырчатые псалии и бронзовые удила. Отверстия у бронзовых, роговых (костяных), деревянных и кожаных (?) псалиев располагались всегда в одной плоскости, продолжала сохраняться коленчатая форма и слабо выраженные грибовидные навершия (Аржан-1, Курту-2, Ак-Алаха-2, БЕ – 7,14). Наряду с появившимися бронзовыми удилами, очевидно, продолжали использовать и ременные (Курту-2, БЕ-7,14). Достоверных данных о наличии других бронзовых деталей уздечки или седла верховой лошади пока нет. Фурнитура из рога (ко сти) и клыков кабана отсутствовала (Курту-2, БЕ – 7,14), или, по большей части, не имела функционального назначения (Аржан-1, Баданка-4).
Классическая верховая сбруя раннескифского времени, замечательно представленная в Казахстане, на Алтае и в Туве, появляется «внезапно» с детально разработанным стандартизированным набором бронзовой фурнитуры, насчитывавшем до ста и более деталей. По заключению Л.Т. Яблонского в Приаралье это происходит на рубеже VIII-VII вв. до н. э. [Яблонский, 2004]. Примерно тогда же, в начале VII в. до н. э. появляются раннескифские захоронения на Алтае, во многих из которых обнаружены сбруйные наборы сако-майэмирского облика. Наиболее интенсивно этот процесс шёл в сакском мире, но в каждой области складывался свой особый облик сбруи и звериного стиля.
Почти одновременно со сбруйной бронзовой фурнитурой появляется и во многом копирующая её поясная, образуя полный единый комплекс снаряжения воина-всадника и его лошади. Данные изменения в экипировке лошади, а затем и воина-всадника, очевидно, непосредственно связаны с военизацией общества номадов и образованием крупных конных отрядов, принимавших участие в сражениях на отдалённых территориях вплоть до Китая и Передней Азии. Именно на войне особенно требуется принуждение лошади, что и послужило стимулом для повсеместной замены ременных удил на более строгие бронзовые (Аржан-1). Наиболее значимые изменения в мире кочевников, очевидно, происходят в начале VII в. до н. э., когда они становятся участниками известных исторических событий в Передней Азии. В это время и складывается единый сложный набор сбруйной и поясной фурнитуры, являвшейся, прежде всего, престижным атрибутом воина-всадника. Начало этого «героического» периода и формирования раннескифской культуры, видимо, маркирует курган Аржан-1 [Грязнов, 1980, с. 51]. С этого времени, по мнению Д.Г. Савинова, начинается цепная реакция в подвижках кочевников на запад, из Центральной Азии в VIII в. до н. э. (Аржан-1), достигших Передней Азии и Юга Восточной Европы в начале VII в. до н. э. [Савинов, 2002, с. 76]. Данные по конскому снаряжению, в целом подтверждают такую направленность процессов, хотя в реальности прямого одностороннего движения очевидно, не было, а в VII в. до н. э., наоборот, достоверно фиксируются обратные волны распространения раннесакского населения.