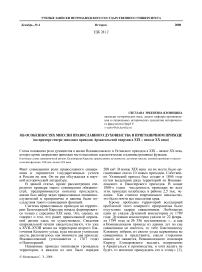Об особенностях миссии православного духовенства в приграничном приходе (на примере северо-западных приходов Архангельской епархии в XIX - начале XX века)
Автор: Яловицына Светлана Эрккиевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (97), 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена роли духовенства в жизни Вокнаволокского и Ухтинского приходов в XIX - начале XX века, которое кроме окормления прихожан часто выполняло идеологические и административные функции.
Приграничный регион, беломорская карелия, православное духовенство, духовная миссия, административная и идеологическая функция, xix век, начало xx века
Короткий адрес: https://sciup.org/14749484
IDR: 14749484 | УДК: 281.2
Текст научной статьи Об особенностях миссии православного духовенства в приграничном приходе (на примере северо-западных приходов Архангельской епархии в XIX - начале XX века)
Факт совмещения роли православного священника и охранителя государственных устоев в России не нов. Он не раз обсуждался в научной исторической литературе.
В данной статье, кроме рассмотрения очередного примера такого совмещения обязанностей, предпринимается попытка проследить, каким был набор задач православных священнослужителей в приграничье и каковы были последствия такого совмещения функций.
Система православных приходов на территории Беломорской Карелии начала формироваться только с середины XIX века. Это, однако, не говорит о том, что ранее православной церковной жизни здесь не существовало. Сведения епархиальной печати свидетельствуют, что уже к XVII–XVIII векам на территории второго благочиния Кемского уезда, куда входили ухтинские места, располагалось как минимум два прихода: Вокнаволокский (упоминается с 1767 года) и Панозерский.
Названные приходы охватывали громадные территории, в каждом из них было порядка
200 км². В конце XIX века на их месте было организовано около 10 новых приходов. Собственно Ухтинский приход был создан в 1846 году путем выделения ряда территорий из Вокнаво-локского и Панозерского приходов. В конце 1880-х годов численность прихожан во всех этих приходах колебалась в районе 2,5 тыс. человек. Как считало епархиальное начальство, это было почти все население края.
Кроме проблемы территорий всегдашней проблемой этого северного приграничья было отсутствие кадров священников. Любопытен один из указов Духовной консистории от 1789 года: Духовная консистория указом от 22 февраля 1789 года за № 356 постановляла: «…а как в Вокнаволоцком приходе из давних лет по сие священника не имеется, то тебе благочинному Клюкину избрать из своего уезда церковника во священника и представить, ежели сторонних никого не окажется, Вокнаволоцкого пономаря Кирилу Елизаровского выслать непременно в Архангельск к производству, и хотя желать не будет, то всячески принуждать его к этому» [1].
Указанный источник также пояснял причины нежелания священников служить в Вокнаволок-ском приходе: «В том приходе кормиться нечем, руги собрать не с кого, что ныне немалое количество годных крестьян взято в стрелки, а другие едва ли не все упражняются в казенных работах и сами претерпевают в пище недостаток».
Кадровые проблемы оставались актуальными для этих мест весьма длительное время. И дело было не только в нежелании здесь служить. Присланные сюда священники нередко становились объектами для разбирательств епархиального начальства и недовольства местных жителей. В архивных документах названных приходов XIX века по крайней мере трижды встречаются дела о подобных эксцессах.
В качестве иллюстрации приведем один пример. В июне 1807 года Кемское духовное правление вынуждено было принимать меры относительно пьянства и непристойного поведения священника Вокнаволокского прихода Михаила Кудрявина. Крестьяне Вокнаволокского прихода обвиняли его в следующем: «Кудрявин обращается в пьянство, но мы ему не противились (то есть ничего против этого не говорили. – С. Я. )… Если придет кто к нему для исповеди, недоразумея русских слов, то и при сем их бить, невзирая на то, что в храме Божьем, потому малознающие русского языка и явиться к нему не смеют… По позыву к родильницам для дачи молитвы и крещения младенцев от пьянства не может он его исправить, и потому без крещения оные младенцы умирают и погребаются… Хотя и небольшая при церкви была сумма, но священник без ведома мирского всю оную употребил на пьянство» [2]. По факту жалобы Кемское духовное правление начало следствие, в ходе которого выяснилось, что жалобы крестьян, хотя частично и преувеличены, но основаны не на пустом месте. Анализируя следственные документы, можно сделать следующие выводы:
-
1. Вокнаволокский священник М. Кудрявин не пользовался авторитетом среди прихожан.
-
2. Главной причиной отсутствия авторитета было незнание священником карельского языка, на котором говорили жители деревни, а также его злоупотребление спиртными напитками.
-
3. Для священника Вокнаволокского прихода существовала проблема больших расстояний между селениями, которые находились в его ведении. По этой причине он не мог в полной мере ни исполнять необходимые таинства, ни тем более заботиться о душепопечительстве своих прихожан.
-
4. Кудрявин был отправлен в Вокнаволок на должность священника в качестве наказания.
Однако расчеты консистории на «исправление» священника не оправдались. За описанный выше проступок М. Кудрявина сослали в Архан- гельский монастырь навечно без права службы. Для Вокнаволока итогом следствия стало отсутствие священника. Святые таинства стал временно исполнять Стефан Камкин, изредка приезжавший в деревню.
Возможно, и не стоило бы так подробно останавливаться на этом событии 1807 года и делать на его основе далеко идущие выводы о слабости духовных кадров в приграничных приходах Беломорской Карелии, если бы и в середине XIX века эти же проблемы не возникали в приходе вновь и вновь.
Новая конфликтная ситуация случилась в 1852 году. Причиной конфликта между духовными лицами, как выясняется из материалов следствия, учиненного по этому делу Его Преосвященством, оказалась скандальная история, произошедшая в ночь на 7 января после литургии во время хождения по домам со Святым Крестом. Пьяные священник и пономарь подрались в доме одного из крестьян. «Пономарь Дмитриев стал ругать священника непристойными словами… кинул в священника чайником со святой водой…» [3]. Длительное и запутанное следствие по делу подтвердило вину обоих. Ответчикам было определено наказание – 3 месяца епитимьи в монастыре. Однако наказание смягчили, объяснив дело таким образом: «…но как высылка их на дальнее расстояние в монастырь соединена была бы с затруднением как для них самих, так и для начальства, для замещения по исправлению их обязанностей на время их отсутствия в приходе кем-либо из священнослужителей, то епитимью в монастыре заменить милостью на бедных. Взыскать с каждого из них 3-х месячное жалованье…» [4].
Духовные лица не являлись примером высокой морали и нравственности и часто не обладали авторитетом у местных жителей. По всей видимости, описанный случай не был исключением из обычного образа жизни духовенства, так как в делах следствия указывается, что подобное поведение духовных лиц вызывало недовольство и ропот прихожан. «Пономарь не первый раз так делает… ходит с песнями по ночам по деревне, что духовному значию неприлично, особенно против этого возстают раскольники» [5].
Примечательно последнее замечание, свидетельствующее, на наш взгляд, не только о сохранении религиозного благочестия среди староверов Вокнаволока, но и о том, что, несмотря на гонения против старообрядцев середины XIX века, последние поднимали свой голос в защиту морали и нравственности.
Для того чтобы у читателей не сложилось представления о случайном характере подобных происшествий, скажем, что сведения о служивших в Вокнаволоке и Ухте священниках в целом подтверждают факт частой смены духовных кадров. Анализ данных метрических книг приходов позволяет заключить, что на место священника в приходах не раз назначали лиц из со- седних приходов или не прошедших полный курс богословских наук дьячков.
Каков же был состав духовных кадров Ухтинского и Вокнаволокского приходов в XIX веке?
Практически все служившие здесь в XIX веке священники были русскоязычными, и лишь некоторые немного знали карельский язык. Священников родом из Вокнаволока или Ухты не было, и лишь Камкины происходили из ближайшего Панозерья. В приходе предпринимались попытки подготовки священников из коренных жителей. Некоторые из них, такие как Василий Изюмов, прошли путь от псаломщика до священника (правда, в соседнем Войницком приходе). Но такие случаи были редкостью.
Жизнь и деятельность священников, безусловно, во многом определяла отношение прихожан к исповедуемой ими вере. Описанные выше нелицеприятные ситуации в этой связи могли оттолкнуть жителей Вокнаволока от православия. Однако не будем забывать, что фигура священника в западных волостях Беломорской Карелии – это не только фигура духовная. В определенной степени на священника возлагался ряд задач вполне светского содержания, а именно – образование детей. 12 января 1859 года в Вокнаволок-ском приходе было открыто первое сельское училище [4]. Учителями и наставниками в нем стали священники. Священник осуществлял функции фельдшера, заполнял метрические книги. Он же выполнял и роль человека, ответственного за лояльность населения существующей власти. С фигурой священника у местного населения ассоциировалась не столько его духовная функция, сколько ее государственный статус. А отношение карельских крестьян к представителям власть предержащих часто было особым. От этих лиц могли терпеть и терпели многое.
Середина XIX века стала переломным моментом в положении православия в крае. Здесь активно создавались новые приходы, вводились дополнительные священнические должности, поощрялась работа по переводу на карельский язык богослужебных книг. С образованием приходов увеличилось число священнослужителей в крае, стали строиться часовни и церкви. Существенно увеличилось жалованье священников, хотя это не поменяло ситуацию с их обеспечением кардинально.
Новым явлением в жизни прихода в 1870-е годы стала и деятельность образованной в Ухте секты «ушковайзет». Учение «ушковайзет» представляло собой некий симбиоз православия и протестантских течений. В богослужебной практике секты заметно присутствие лютеранских традиций. К выводу об общности секты с лютеранством пришла и комиссия, расследовавшая дело «ушковайзет». Итогом процесса, длившегося с 1876 по 1882 год, стал отказ главных идеологов секты от какой-либо причастности к ее деятельности. Наказание им было определено в форме духовного наставления епархиальны- ми властями. Оценивая деятельность секты в истории исследуемых приходов, важно подчеркнуть следующее. Почва для быстрого роста сторонников сектантства была достаточно благоприятной из-за слабых позиций православия, связанных с вышеописанными трудностями. Кроме того, сами идеи и образ жизни сектантов (трезвенничество, знание и использование ими карельского языка в ходе проповедей, доступность вероучения) были весьма привлекательны для карельского крестьянства. Суд над сектантами и его решения воспрепятствовали дальнейшему широкому распространению этого учения, так как власти стали отслеживать движение и появление лидеров сектантов в приграничных деревнях. Тем не менее секта продолжала существовать тайно: в 1920-е годы в документах уже советских и партийных органов встречаются упоминания о ней. Деятельность секты «ушковайзет» вызывала беспокойство православного духовенства. Оно осознавало и причины возникновения подобного рода движений. В частности, было обращено внимание на языковую проблему, которая настоятельно требовала своего решения. Службы в православных церквах велись на церковнославянском языке, который плохо понимали большинство жителей. К началу XX века сложились своего рода языковые группы: финно- и карелоязычные коробейники-мужчины, карелоязычные женщины и дети, русскоязычные чиновники и использующее церковнославянский и русский язык православное духовенство. Понятно, что в условиях языковых барьеров трудно было рассчитывать на то, что прихожане будут понимать проповедь.
В 1894 году в епархии начала действовать переводческая комиссия, целью которой была подготовка переводов богослужебных текстов на «туземные или инородческие языки», в том числе и на карельский.
Обнародование Манифеста от 17 апреля 1905 года «Об укреплении оснований терпимости религиозных верований», признавшего юридически возможным и ненаказуемым переход из православия в другую христианскую веру, стало побудительной причиной для начала деятельности западных миссионеров в западных приходах Беломорской Карелии. Среди них были лютеранские проповедники, методисты и др.
В качестве противовеса миссионерской деятельности местное духовенство решило обратиться в полицию с жалобой на происки западных миссионеров, что, на наш взгляд, свидетельствует об особой (назовем ее «патриотической») роли духовенства в приграничном крае.
На съезде миссионеров архангельской и финляндской епархий, прошедшем в Ухте в декабре 1906 года, обсуждались вопросы укрепления православия в Беломорской Карелии.
Главной проблемой в обсуждении вновь стала языковая. Участники съезда понимали, что использование церковнославянского языка в карельских приходах поддерживает индифферент- ность жителей к православной церкви, пренебрежение основными обязанностями верующего. Подчеркивалось, в частности, что жители причащаются лишь раз в год.
Использование финского языка в богослужении по идеологическим соображениям не рассматривалось в качестве приемлемого варианта. По мнению участников съезда, «введение же финского языка не вызывается никакою необходимостью, тем более, что славянский язык становится все более и более понятным населению» [6]. Карельский же язык не имел письменности, а следовательно, не было необходимых литургических и прочих книг. Учитывая сложность языковой ситуации, съезд принял весьма невнятное решение в пользу использования в богослужении «карело-финского языка».
Утвержденное решение вступило в силу. Более активно стала работать переводческая комиссия. 17 февраля 1908 года было образовано Архангельское Православное Беломоро-Карельское Братство Архангела Михаила, учрежденное для укрепления православия и православно-русских начал среди карел Кемского уезда, а также «в помощи карелам в самозащите от нападок со стороны лютеранской и сектантской пропаганды и неверия».
Основной сферой деятельности Братства была помощь в строительстве и ремонте церквей, способствование открытию и работе церковно-приходских школ и школ грамоты, подготовка кадров священников, способных вести обучение на карельском языке и противостоять миссионерской работе, осуществление переводов на карельский язык.
Братство располагало значительными материальными ресурсами. Его первоначальный капитал сформировался благодаря богатым пожертвованиям карельских монастырей и епископа Архангельского и Холмогорского. Впоследствии бюджет пополнялся за счет членских взносов и благотворителей. Братство продолжало свою работу до 1918 года.
В первую очередь Братство обратилось к вопросу о необходимости качественно и количественно улучшить кадры священнослужителей в западных приходах Беломорской Карелии. Братством было предложено открыть новые дополнительные причты в Вокнаволокском и ряде других приходов. С этой целью жителей попросили составить так называемый приговор, в котором должно было содержаться согласие жителей нести расходы по содержанию дополнительных духовных лиц. Однако прихожане отказались взять на себя новые траты, объяснив это своей бедностью.
В 1912 году при содействии братства началась работа по сбору средств на строительство нового храма и школы (прежде она ютилась в наемном помещении) в Вокнаволоке. Примечательно, что в ходе этой работы сами прихожане пожертвовали около 500 руб. и дали согласие на бесплатную заготовку бревен для строительства, что свидетельствует о действительной заинтересованности жителей в этой постройке. В 1912 году в приходе были отремонтированы и другие здания церковного назначения – дома причта, часовни и прочее. Безусловно, это способствовало укреплению авторитета православного духовенства в приходе. В Журнале заседаний членов Братства подчеркивалось, что «обращение карел в лютеранство ослабло благодаря соответствующим мероприятиям». Последний вывод наглядно и как нельзя лучше демонстрирует мотивы «ревнителей православия» в западном карельском приграничье, которые воспринимали православие как форпост российской государственности, призванный служить барьером на пути инославного влияния. Задачи нравственного воспитания отодвигались на второй план.
ВЫВОДЫ
Начав свое развитие значительно позднее, чем другие приходы на Северо-Западе России, Ухтинский и Вокнаволокский приходы преодолевали массу трудностей, от сугубо материальных до идейных. Ситуацию осложняло втягивание населения прихода и духовенства в противостояние панфиннизма и русификации. (О различных аспектах политики панфиннизма см. подробнее: [1], [2], [3].)
К началу Первой мировой войны верх взяла, как и следовало ожидать, линия укрепления карел в православии. Однако вряд ли мы можем быть уверены, что позиция населения края стала сугубо проправославной. Для жителей Беломорской Карелии, проживающих в условиях пограничья, бытования разных вероисповеданий, устойчивого сохранения дохристианских верований, этноязыковых различий, проблема идейного выбора между религиями не носила принципиального характера. Несмотря на то что православие претендовало здесь на исконность и историческое присутствие, оно не завоевало прочных позиций среди карельского крестьянства. Язычество и раскол оставались у карел повсеместным явлением. Сектантство обеспечивало постоянный тонус светских и епархиальных властей в идеологической борьбе за право духовного призрения на этих территориях. В сектантстве видели главного идейного противника в распространении православной веры в этом регионе.
Позиция карел оставалась выжидательной (что вполне соответствует их всегдашнему прагматизму). Никогда нельзя было сказать наверняка, в чью сторону склонятся их симпатии, хотя они и являлись прихожанами православного прихода.
Возвратимся к сформулированному в начале статьи вопросу. Изложенный материал, на наш взгляд, свидетельствует о явном приоритете для духовенства функции охранителей государственных устоев. Этот вывод подтверждается тем, что, во-первых, основные усилия священников были направлены на борьбу с расколом и сектантством. Во-вторых, ключевая проблема – этноязыковая – реализовывалась исходя не из конкретных нужд прихожан и укрепления православной традиции, а в политическом ключе. В-третьих, кадровые проблемы решались в зависимости от политической благонадежности священнослужителей, а не от их профессиональной пригодности.
Безусловно, жители края в XIX – начале XX века были людьми верующими. Как нам представляется, их вера была весьма специфичной, сочетающей в себе православную обрядность как дань государству, в котором они жили, языческие верования и старообрядческие традиции своих недавних предков и односельчан, новые веяния протестантского толка, доходившие до этих мест вместе с кочующими в Финляндию и обратно торговцами. По данным Подворной описи Вокнаволокской волости за 1884 год, в отлучках пребывали до 52 % мужчин. Вокна-волокцы уповали на Бога, но в то же время верили в свои силы и вряд ли возлагали какие-нибудь надежды на посредников Бога на земле, которые в Вокнаволоке часто не являли собой пример высокой нравственности.
Какова была роль Русской православной церкви (РПЦ) для жителей этого края? РПЦ в Вокнаволоке XIX – начале XX века воспринималась как ставленница государственной власти. Вследствие такого статуса священники РПЦ часто были вынуждены выполнять скорее политические, нежели духовные задачи, что не способствовало росту их имиджа.
Список литературы Об особенностях миссии православного духовенства в приграничном приходе (на примере северо-западных приходов Архангельской епархии в XIX - начале XX века)
- Архангельские Епархиальные Ведомости. 1911. № 8.
- НА РК. Ф. 165. Оп. 1. Д. 3/6. Л. 1-2.
- НА РК. Ф. 165. Оп. 1. Д. 15/358; НА РК. Ф. 165. Оп. 4. Д. 1/12. Л. 16-25.
- НА РК. Ф. 165. Оп. 1. Д. 3/63. Л. 15.
- НА РК. Ф. 165. Оп. 4. Д. 1/12. Л. 16-25.
- НА РК. Ф. 180. Оп. 1. Д. 1/23. Л. 1об.
- Баданов В. Панфиннизм в Карелии//Петрозаводск. 1992. № 64-65. С. 10.
- Баданов В. Наша общая история//Карелия. 1993. 14-20 июля. С. 1-3.
- Витухновская М. Российская Карелия и карелы в имперской политике России, 1905-1917. СПб.: Норма, 2006. 382 с.
- Илюха О.П. Школа и просвещение в Беломорской Карелии во второй половине XIX -начале XX века. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 102 с.