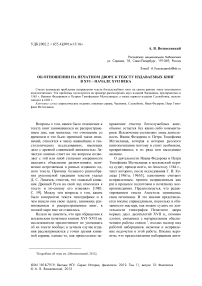Об отношении на печатном дворе к тексту издаваемых книг в XVI – начале XVII века
Автор: Вознесенский Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусская литература и книга
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам исправления текста богослужебных книг на самом раннем этапе московского книгопечатания. Эти проблемы исследуются на примере рассмотрения двух изданий Часовника, предпринятых в 1565 г. Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем, а также первого издания Служебника, напечатанного в 1602 г.
Кириллические издания, книжная справа, часовник, служебник, иван федоров, петр тимофеев мстиславец
Короткий адрес: https://sciup.org/14737712
IDR: 14737712 | УДК: [002.2
Текст научной статьи Об отношении на печатном дворе к тексту издаваемых книг в XVI – начале XVII века
Вопросы о том, каким было отношение к тексту книг занимавшихся их распространением лиц, как менялось это отношение со временем и что было причиной таких изменений, относятся к числу важнейших в текстологических исследованиях, имеющих дело с древней славянской книжностью. Зачастую именно ответ на эти вопросы позволяет с той или иной степенью уверенности находить объяснение разночтениям, неизменно встречаемым в разных изданиях одного текста. Причину большого разнообразия рукописной традиции текстов указал Д. С. Лихачев, отметив, что «каждый книжник Древней Руси на свой лад относился к тексту и по-своему его изменял» [1983. С. 59]. Между тем вопросы о том, каким было восприятие текста типографами и в чем видели они свою задачу, занимаясь размножением и распространением книг, в полной мере еще не ставились.
Нельзя не заметить, что при обращении к московским печатным книгам XVI–XVII вв. исследователи предпочитают не упоминать об их тексте вообще; в лучшем случае издания рассматриваются с точки зрения книжной справы, однако то, как происходило ис- правление текстов богослужебных книг, обычно остается без каких-либо комментариев. Исключение составляет лишь деятельность Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца, которая в истории русского книгопечатания поэтому и стоит особняком, превратившись в из ряда вон выходящее явление.
О деятельности Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца в московский период судят, прежде всего, по Апостолу 1564 г., текст которого, после исследования Г. И. Коляды [1961а; 1961б], однозначно считают исправленным, причем исправленным как раз в процессе подготовки к печатному воспроизведению. Предполагается, что редактированием текста Апостола занимались сами печатники. И это мнение представляется вполне справедливым, поскольку в обязанности мастера, как можно судить по деятельности типографов Печатного двора первых двух десятилетий XVII в., помимо хлопот, связанных с материальным обеспечением работы станов 1, входил надзор над работой наборщиков, включая и исправление недочетов в этой работе. Вполне вероятно, что предоставление наборщикам анти- графа – рукописи, с которой набирался текст печатаемой книги, также относилось к числу обязанностей мастера, и такая рукопись приготовлялась именно им.
Между тем печатание, как в случае с Апостолом, заранее отредактированного текста не было для Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца правилом. Об этом неоспоримо свидетельствуют два другие их московские издания – сентябрьский и октябрьский Часовники 1565 г. Сопоставление изданий привело многих исследователей в замешательство, поскольку в более позднем выпуске книги текст был заметно изменен, а это заставляло признать, что более ранний Часовник печатался без каких-либо исправлений текста. Объяснить этот факт оказалось довольно трудно. Самым обычным истолкованием печатания Часовника по неисправленной рукописи стало признание спешки в работе над книгой печатников, спешки, вызванной то ли уже начавшимися гонениями на них [Некрасов, 1924. С. 83], то ли «острой нуждой в Часовниках как книгах, одновременно необходимых для церкви и имевших значение учебников» [Зернова, 1958а. С. 10]. Впрочем, порою этому находили более фантастическое объяснение; например, Г. И. Коляда предположил, что книга печаталась по частному заказу Строгановых, испросивших у Ивана Грозного разрешения издать ее в государственной типографии [1961а. С. 30; 1961б. С. 229].
Основания, чтобы видеть в работе первопечатников спешку, назывались разные; в числе их были и неряшливость [Некрасов, 1924. С. 83] (иначе: облик [Немировский, 2007. С. 797]) изданий, наличие в тексте ошибок, что вызвало необходимость в их исправлении [Некрасов, 1924. С. 83], небольшой удельный вес исправлений [Немировский, 2007. С. 797], наконец, то, что типографы приступили к печатанию второго издания Часовника, еще не закончив первого [Некрасов, 1924. С. 83; Зернова, 1958а. С. 10]. Между тем ни о какой спешке здесь не может идти и речи, тем более что объяснение последнему обстоятельству легко находится, если принять во внимание, что одновременная работа над двумя изданиями одной книги предпринималась преимущественно тогда, когда планировалось увеличить ее тираж. Так как с одного набора обычно печатали не более 1 500 экземпляров 2, с этой целью типографам приходилось производить дополнительный набор или даже несколько наборов, т. е. печатать книгу в два или несколько заводов. Правда, как правило, в таких случаях книга во всех заводах получала единые выходные сведения, а Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстисла-вец решили указать реальное время работы над каждым из заводов. Поэтому действительно поразительным в истории с федоровскими Часовниками может показаться только то, что при печатании второго завода в текст книги были внесены исправления.
Необходимо отметить, что, вопреки мнению Е. Л. Немировского 3, текст Часовника подвергся по-настоящему планомерному редактированию. Уже с первых листов книги типографы были заняты улучшением внешнего вида набора, заботой о том, как он выглядит; для этого производились изменения построчного распределения текста, причем печатники не избегали и переноса перенасыщавшего страницу текста на следующую страницу, если, конечно, там для этого находилось место. По всей книге был исправлен важнейший недочет текста первого завода: на месте поминания в молитвах царя или царей появилось точное указание на «благоверного царя нашего» [Коляда, 1961а. С. 230; 1961б. С. 31; Немировский, 2007. С. 797]. Также Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец внесли целый ряд лексических изменений, главным образом, исправляющих явные ошибки, закравшиеся в текст первого завода [Коляда, 1961а. С. 229; Зернова, 1958а. С. 10; Каменева, 1967. С. 133]. Кроме этого, лексика книги менялась довольно мало, отчего внимания заслуживают, быть может, лишь два дополнения в выходных сведениях книги. В них была введена характеристика Ивана Грозного как « ЕСЕ— ЕЕДИкТ— рой'— СДЖОДЕрЖЦД » (л. 22 3 ), да в перечислении того, чем Бог наделяет народы и что московский царь должен был воспринять в свое сердце, разного рода добродетели оказались дополнены « §доженТежж зд^х^ д^-нТи » (л. 22 2 об.) 4 .
Особенно ярко планомерность редактирования текста книги проявилась в ее конце, где приведены разнообразные молитвосло-вия: тропари, кондаки, ипакои, богородичны и крестобогородичны. В этой части книги в текст внесены весьма серьезные изменения. К их числу можно, к примеру, отнести добавление к субботнему тропарю 2-го гласа (начало: ИПди пррцж! и жчнцъ1... ) тропаря 8-го гласа (начало: Иже гд^винажи жЗдро-сти —) или замену крестобогородична 2-го гласа (начало: Чтн^ кртожж сна твоего со-Хран— ежи... ) другим (начало: Теве ведичдежж вце вопТк^е ^). Однако еще более серьезной представляется произведенная реорганизация текста. В первом выпуске Часовника тексты молитвословий приведены, как правило, полностью; лишь для крестобогоро-дична 8-го гласа указано его начало и сделано примечание: вж, '» жж ч"с8 (л. 22 2 об.) Во втором выпуске подобных случаев встречается намного больше; там сокращены до начальных слов богородичен воскре-сен 8-го гласа (л. 20 6 : писанъ. вж, о- жж, чс8 ), тропарь и кондак на среду (л. 21 2 об., без объяснений, среди молитвословий дневных, полагающихся на среду, полный текст оставлен только для крестобогородична), кре-стобогородичен 1-го гласа (л. 21 6 об.: писанъ. в срЕ ) и богородичен 2-го гласа (л. 21 6 об.: писанъ в с8 ). Все это как раз и позволило московским первопечатникам во втором выпуске Часовника сократить общий объем книги на 2 листа.
Таким образом, при рассмотрении федоровских Часовников становится вполне очевидной забота типографов о правильности текста и удобстве его организации в книге, – забота, которую было невозможно проявить, если бы в их работе присутствовала спешка. Именно поэтому во внесении в книгу столь существенных изменений (а только так можно расценивать изменения, имевшие влияние на объем книги), следует видеть не спешку, а совсем иные причины, тем более что случай с Часовниками не был единичным в истории московского книгопечатания. В другой раз возможность показать свое отношение к тексту богослужебных книг на Печатном дворе представилась тогда, когда опять потребовалось увеличить тираж книги, и было это в 1602 г. при печатании Служебника.
В 1602 г. в Москве было предпринято первое издание Служебника, и, вероятно, по важности этой книги для богослужения ее решили печатать в два завода (если учесть, что в ту пору обычным на Печатном дворе оказывался выпуск 1 000 экземпляров издания, то, нужно полагать, общим тиражом в 2 000 экземпляров). Давая характеристику этого издания, А. С. Зернова не могла не отметить, что ею обнаружены «два разные вида набора», что в экземплярах, принадлежащих разным видам, можно найти не только неодинаковое число заставок (в экземплярах 2-го вида – на одну больше), но и «много различий в наборе текста и рисунке инициалов» [1958б. № 18].
Впрочем, по замечаниям А. С. Зерновой трудно составить представление, какой правке подвергся текст при подготовке 2-го выпуска Служебника 1602 г. А между тем в нем, как и у Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца, особенно пристальное внимание было обращено как раз на организацию текста. Правда, на этот раз московские типографы в значительно меньшей степени интересовались полнотой текста молитвословий. Можно отметить лишь один подобный случай. В тексте уставных указаний на субботу мясопустную во 2-м выпуске книги вместо полного текста второй стихиры в память усопшим (начало: начатокж жи и составж... ) и богородична (начало: ж"дтважи рожкша— т— Х^ —) приведены только их начальные слова. Однако это, вероятно, была простая унификация текста, поскольку первая стихира в память усопшим была представлена лишь инципитом изначально.
Вместе с тем исправления, касавшиеся использования киновари для рубрикации текста, были в Служебнике и в самом деле многочисленны. Да и перераспределением текста, направленным на достижение более равномерного набора, типографы занимались регулярно и планомерно, даже если для этого требовалось менять его постраничное распределение. Пытаясь избежать излишне разряженных или перенасыщенных строк, печатники не стеснялись производить замену одних литер другими (например, «и» восьмеричного «и» десятеричным), вводить сокращения слов или, наоборот, отказываться от них.
Как это было и в федоровском Часовни-ке, в Служебнике правился и собственно текст книги. При этом в нем исправлялись не только опечатки, но и закравшиеся в текст несуразности (к примеру, фраза §ж^и то— страсть т^аесиЗю, и сквериЗ дшевиЗк была заменена на §ж^и то— страсть дшевиЗк, и сквернЗ т^аесиЗю), вводились пропущенные по недосмотру слова.
Некоторые из подобных пропусков весьма примечательны; к примеру, те, которые правились в тексте литургии Иоанна Златоуста. Описание отдельных литургических действий оказалось в Служебнике неполным, в частности были пропущены ответы паствы на возгласы иерея, сопровождавшие эти литургические действия 5. Непорядок обнаружили при проверке правильности текста книги во время печатания первого завода издания. Тогда два самых вопиющих недочета, связанных с обрядом пресуществления, были исправлены посредством маргиналий: при возгласах, сопутствующих превращению вина и хлеба в кровь и тело Христово, на поле появились добавления: и awe ажТнь (л. 16 3 ).
При печатании второго завода Служебника обе маргиналии были внесены в текст, для чего пришлось изменить построчное распределение текста в книге, однако на этом изменения не закончились. В тексте литургии Иоанна Златоуста появились три новых маргиналии: i awe стъ стъ стъ гь caBaw (16 1 об.), и awe достойно е (16 5 об.), и awe ажинь съ дхо твои (16 8 ). Нетрудно заметить, что все три маргиналии дополняют текст в пределах 16-й тетради книги, в которой текст правился посредством маргиналий и при печатании 1-го завода. Вероятно, внесение двух первых помет на полях в текст 2-го выпуска книги заставило типографов более внимательно ознакомиться с текстом всей тетради в целом, и как раз это знакомство привело их к пониманию необходимости новых исправлений текста.
Таким образом, способы исправления текста, применяемые Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем при выпуске Часовника и печатником Служебника 1602 г. Андроником Тимофеевым Невежей, оказались во многом сходными. И одними, и другим текст правился по мере нахождения нестроений, причем ни у одних, ни у другого не возникало никаких сомнений в правомерности своих действий, связанных с внесением изменений в книгу. Впрочем, Невежа не ограничился только подобной правкой; наряду с внесением перемен, с сокращением и восполнением текста, он использовал также возможность вырезки листов с неверным текстом, их перепечатки и последующей вклейки на место вырезанных. Использование картонов было присуще работе печатника и над 1-м, и над 2-м заводом. При этом одну из замен он произвел сразу для обоих тиражей (см. л. 361); очевидно, недочет удалось обнаружить лишь по окончании печатания 2-го завода.
О том, чем были вызваны подобные замены листов, к сожалению, судить крайне сложно, поскольку та из них, о которой можно составить представление благодаря тому, что в одном из экземпляров вырезаемые листы сохранились, может быть расценена и как пропуск по невниманию части текста наборщиком, и как внесение исправлений в процессе печатания книги. Речь идет о пропуске при печатании 1-го тиража Служебника в чине омовения мощей молитвы, полагаемой сразу после омовения. Точнее, она была там напечатана, но в качестве молитвы перед омовением. Исправление заключалось в перемещении ее на свое место и во включении в состав службы (перед омовением) другой молитвы. В связи с этим вырезке в экземплярах 1-го завода подверглись два последних листа 33-й тетради. Между тем не исключено, что при их перепечатке и замене также была допущена ошибка, поскольку последний лист той же тетради был заменен и в экземплярах 2-го завода Служебника.
В любом случае использование картонов предполагало наличие весьма серьезных недочетов в тексте, исправить которые без его перепечатки не представлялось возможным. Если же находились возможности внести исправление, не делая дополнительной работы, предпочтение отдавалось именно такому образу действий. При этом наличие в экземпляре поправок не рассматривалось как свидетельство неполноценности этого экземпляра. Не случайно и корректурные листы, являвшиеся основой для изменения набора, воспринимались в качестве полноправной части тиража и использовались при составлении экземпляров издания наряду с листами, на которых был оттиснут уже измененный согласно корректуре набор. Поэтому от XVI – начала XVII в. могли сохраниться лишь рукописные антиграфы и рукописи, в которых отразились разные этапы работы над текстом книги при подготовке ее к печати, а корректурные листы оказывались разбросаны по экземплярам ее тиража.
История печатания федоровского Часов-ника и невежинского Служебника ясно показывает, что и неполнота текста книги не воспринималась как неправильность. Все экземпляры издания, даже если их текст не был одинаков, но различался степенью полноты, признавались достойными распространения в равной мере, почему и печатание издания в два завода рассматривалось лишь как удобный случай для совершенствования текста книги.
Таким образом, в раннюю пору московского книгопечатания отношение типографов к тексту издаваемых ими книг было во многом таким же, как и у книжников, принимавших участие в создании рукописной книги. В дальнейшем оно, несомненно, изменилось. Не исключено, что главную роль в этом сыграло создание в правление патриарха Филарета на Печатном дворе института справщиков, взявших дело внесения в текст книг исправлений в свои руки.
ABOUT THE TREATMENT OF THE TEXT OF ISSUED BOOKS AT THE PECHATNYJ DVOR IN 16th – EARLY 17th CENTURIES