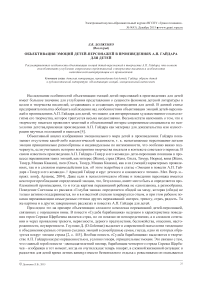Объективация эмоций детей-персонажей в произведениях А.П. Гайдара для детей
Автор: Долженко Людмила Васильевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности объективации эмоций детей-персонажей в творчестве Гайдара, что может способствовать углублению современных представлений о творчестве писателя и особенностях методической интерпретации его произведений.
Детская литература, произведения для детей, гайдар, образы детей в художественной литературе, объективация эмоций, эмоциональный интеллект
Короткий адрес: https://sciup.org/14822423
IDR: 14822423
Текст научной статьи Объективация эмоций детей-персонажей в произведениях А.П. Гайдара для детей
Исследование особенностей объективации эмоций детей-персонажей в произведениях для детей имеет большое значение для углубления представления о сущности феномена детской литературы в целом и творчества писателей, создававших и создающих произведения для детей. В данной статье предпринята попытка обобщить наблюдения над особенностями объективации эмоций детей-персонажей в произведениях А.П. Гайдара для детей, что важно для интерпретации художественного психологизма его творчества, которое трактуется весьма неоднозначно. Весьма кстати напомнить о том, что к творчеству писателя проявляют заметный и обоснованный интерес современные специалисты по психологии детства,привлекая произведения А.П. Гайдара как материал для доказательства или иллюстрации научных положений и выводов [4].
Объективный анализ изображения эмоционального мира детей в произведениях Гайдара показывает отсутствие какой-либо идеологической заданности, т. к. испытываемые персонажами-детьми эмоции принципиально разнообразны и индивидуальны по интенсивности, что особенно важно подчеркнуть, если учитывать историю восприятия творчества писателя в контексте советского периода. В самом известном произведении А.П. Гайдара «Тимур и его команда» дети-персонажи показаны в процессе переживания таких эмоций, как интерес (Женя), страх (Женя, Ольга, Тимур, Нюрка), вина (Женя, Тимур, Мишка Квакин), гнев (Ольга, Тимур, Мишка Квакин), как в их (эмоций) характерных проявлениях, так и в сложном взаимодействии (см. об этом подробнее в статье «Эмоции в повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» // Аркадий Гайдар и круг детского и юношеского чтения». Мат. Всер. н.-практ. конф, Арзамас, 2004). Даже если в психологическом облике и поведении персонажа имеется некоторое преобладание определенной эмоции, что, безусловно, имеет место быть и определяется проблематикой произведения, то и тогда картина переживаний ребенка не однопланова, а разнообразна. Поведение Светланы из рассказа «Голубая чашка» определяется обидой на маму, которая (обида) не только активно поддерживается, но и в известной степени генерируется отцом, и при этом ребенок показан переживающим самые разные оттенки других переживаний: интерес, тревогу, страх, радость. Та же картина и в других завершенных рассказах и повестях А.П. Гайдара для детей.
Проследим это на примере объективации сложного комплекса переживаний детей-персонажей, связанных с ощущением вины. В повести «Судьба барабанщика» ведущим в характеристике поведения героя Сережи Щербачева является страх, но он показан не непосредственно, а в сложном сочетании и через проявление тревоги, нервозности, дурного предчувствия, беспокойства, опасения, настороженности, неуверенности. Гоулман Д. (D.Goleman) выделяет в современной психологии тенденцию к объединению разных оттенков сходных эмоций в своеобразные семьи, гнезда, одно из которых образуется вокруг эмоции страха [2, с. 445]. Вообще повесть «Судьба барабанщика» выделяется в творчестве А.П. Гайдара как раз окрашенностью в, условно говоря, отрицательные эмоции. Это связано с тем, что главный герой повести –двенадцатилетний пионер, барабанщик четвертого отряда Сережа Щерба-чев – изображен в тот момент, когда он очутился,как теперь говорят, в сложной жизненной ситуации: в радостное для детей время летних каникул вместо безмятежного отдыха с ровесниками он оказывается вовлеченным в такие ситуации, когда, пользуясь его беспомощностью, взрослые им манипулируют в своих агрессивных целях. Переживаемые Сережей ощущения в самом общем виде можно сформулировать как комплекс эмоций, связанных с самоосознанием [2; 3]: он живет в плену эмоций стыда, вины, печали, страха, потому что осознает, что нарушает социальные нормы поведения, которые он уже усвоил: затосковал еще больше; стало мне обидно; дальше все пошло колесом; горе мое было так велико; с тяжелым сердцем; а тут пришла новая беда; потом от страха; потом в тоске слонялся без дела; это будила меня моя беда и т.д. Нравственный идеал Сережи – это французский барабанщик (мотив, который встречается и в повести «Школа») как романтический образ, с которым подросток себя пытается идентифицировать. В этом смысле один из ключевых моментов повести – это сон Сережи, в котором он продолжает мечтать о себе как о настоящем барабанщике, но в полусне-полуяви из уст не покормленного им котенка слышит слова, на самом деле идущие из глубины его сознания: Ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам… Барабанщики – смелые и добрые [1, с. 50 – 51]. У К.Э. Изарда читаем: «Эмоция вины совместно с эмоцией стыда лежит в основе чувства социальной ответственности и становится расплатой за проступки. Специфическая функция эмоции вины заключается в том, что она стимулирует человека исправить ситуацию, восстановить нормальный ход вещей» [3, с.798]. Этим мотивационным стимулом определяется развитие сюжета: мучимый ощущением вины и стыда, Сережа пытается исправить ситуацию и запутывается все больше и больше до осознания непосредственной опасности для своей жизни и необходимости ее защищать.
То же происходит и с героем повести «Дальние страны»: стыд и вина становятся определяющими мотивами поведения Петьки с того момента, как он невольно, скрываясь от большой собаки, убежал с чужим компасом: Конечно, он не взял бы компас, если бы не собака. Но все-таки собака или не собака, а выходило так, что компас-то он украл [1, с. 270].Этот внутренний монолог, оформленный как несобственно-прямая речь, когда повествователь проговаривает за маленького героя то, что он еще, скорее всего, не умеет или боится вербализовать, позволяет понять уровень сформированности нравственных норм в сознании мальчика, нарушение которых, пусть и невольное, превращает жизнь Петьки в настоящую муку. И опять, как и в «Судьбе барабанщика», развитие сюжета оказывается определенным поисками героем выхода из ситуации, что и делает Петьку посвященным в отнюдь не детские дела.
Мотивы вины и стыда как факторы пробуждения самосознания и совести осознавались писателем, безусловно, в качестве значимых для детей и подростков, доказательством чего является маленький, теперь уже хрестоматийный рассказ «Совесть». По интенсивности переживаний эмоций юной героиней Ниной Карнауховой этот рассказ сопоставим с рассказом Л.Н. Толстого «Косточка». Герой Л.Н. Толстого сначала побледнел (испугался), потом покраснел (ему стыдно), а потом заплакал (стыд и раскаяние). Нина переживает стыд, вину и, наконец, раскаяние: она плачет, потому что очень тяжело было на ее сердце, которое грызла беспощадная совесть [1, с.184]. Как утверждает психолог, вина играет ключевую роль в процессе развития личной и социальной ответственности, в процессе становления совести. Аффективно-когнитивные структуры совести становятся мотивом и регулятором нравственного поведения [3, с. 861]. Это позволяет сделать вывод о том, что переживания детей-персонажей даются писателем в динамике и взаимодействии различных эмоций.
Вместе с тем переживание детьми определенных эмоций автором фиксируется достаточно последовательно и определенно в зависимости от изображаемой ситуации и возраста персонажа (см. об этом подробнее: Объективация эмоции страха в произведениях А.П. Гайдара для детей // Известия Волг.гос. пед. ун-та. 2013 № 9. С. 120 – 124;Объективация эмоции интереса в произведениях А. Гайдара // Литра и фольклор в аспекте проблемы «рациональное-эмоциональное»: сб. науч. ст., Волгоград, 2012, с. 192–200).
Большой интерес для понимания авторской позиции в произведениях А.П.Гайдара представляет картина объективации эмоции радости. Если исходитьиз того, что А.П.Гайдар – идеологический ортодокс, то советские дети должны были бы быть нарисованы им как вполне счастливые, то есть радостные, ибо известно, что состояние счастья всегда проявляется переживанием эмоции радости. Радость, по классификации К.Э. Изарда, относится к числу фундаментальных эмоций, она переживается как приятное, желанное, полезное, несомненно позитивное чувство, которое в самых общих словах можно назвать чувством психологического комфорта и благополучия. Ребенок не испытывает ни психологического, ни физического стресса, он беззаботен, он чувствует себя легко и свободно [3, с. 303].
Анализ показывает, что переживание радости персонажами повести А.П. Гайдар, безусловно, фиксирует, но это всегда состояние кратковременное. В повести «Тимур и его команда», которая когда-то считалась классическим произведением социалистического реализма в детской литературе, зафиксированных автором состояний радости персонажей очень мало. Безусловную радость Женя испытывает только тогда, когда обнаруживает таинственный штаб. И здесь писатель психологически достоверен: исследователи установили, что мотивационной основой игры очень часто выступает взаимодействие эмоции интереса и эмоции радости. Кроме того, А.П. Гайдар подчеркнуто точен в деталях: в финале повести в момент встречи с отцом Женя улыбается только после его доверительного жеста в адрес Тимура, но при этом автор отмечает: быстрая и торжествующая улыбка скользнула (выделено нами – Л.Д. ) [1, т.2: с. 244], т. е. момент радости мимолетен. Такая же картина наблюдается и в других произведениях писателя, даже в тех, которые традиционно считаются самыми «мирными» и светлыми произведениями о счастливой жизни – «Голубая чашка» и «Чук и Гек».
Однако в связи с этим тезисом комментария требуют финалы названных произведений («Тимур и его команда», «Голубая чашка» и «Чук и Гек»), которые подчеркнуто оптимистичны: это и хрестоматийное утверждение о том, что жизнь была совсем хорошая, и рассуждения о счастье, содержание которого каждый понимал по-разному и т.д. Психологи отмечают, что радость очень часто сопровождается ощущением энергии и силы, так что в мажорных финалах есть своя логика. Мажорные финалы в классических произведениях для детей – это практически норма, которая сложилась при понимании того, что ребенок (в норме) позитивен и устремлен в будущее. В случае с А.П. Гайдаром важно понять, кто солирует в финале: персонажи или автор. В данном случае ответ очевиден: автор. Оптимистические финалы – проявление мирочувствования автора. Большинство психологов считают, что переживание радости связано с самореализацией. Если этот тезис принять в качестве исходного, то нужно признать, что персонажи произведений А.П. Гайдара имеют очень мало поводов радоваться, потому что в состоянии релаксации и психологического комфорта после достижения своей цели мало кто из них находится. Даже Тимур, чтобы «расставить точки над и», вынужден расконспирировать игру, то есть констатировать неуместность своих действий, что вряд ли можно ассоциировать с самореализацией. В данном случае не приходится говорить про Женю, которая показана почти как жертва авторитарного отношения со стороны старшей сестры. Автор не «подтягивает» героев к осознанию своего счастливого детства в довоенной стране, он формулирует их сопричастность миру сам, что и определяет обобщенность финалов, их радостный характер и обращенность в будущее.
Таким образом, объективация эмоций детей-персонажей в произведениях А.П. Гайдара имеет выраженные особенности, связанные как со спецификой детской литературы в целом, так и особенностями художественного психологизма писателя как свойством его стиля.
Мир эмоций детей-персонажей в произведениях А.П. Гайдара разнообразен и многообразен, что в значительной степени характеризует мастерство писателя в изображении мира детства. В основном эмоции персонажей показываются воплощенными уже в поступки и поведение, то есть их мотивационная природа не называется, не обозначается в тексте, но она подразумевает умение читателя «считывать» их самостоятельно и в характеристике поведения персонажей, и в развитии сюжета произведения. Известно, что каждая из эмоций имеет характерное мимическое выражение, но А.П. Гайдар в абсолютном большинстве случаев не фиксирует на этом внимание, что позволяет высказать предположение о понимании им недостаточного уровня психологической и литературоведческой/читатель-ской компетентности детей-читателей, которая позволила бы им правильно истолковать авторскую позицию. Писатель практически не показывает процесс переживания детьми-персонажами той или иной эмоции, он называет переживаемые ими эмоциональные состояния или доминанты, используя воз- можности приема прямой авторской характеристики или несобственно-прямой. Например, в рассказе «Четвертый блиндаж»: сидел он дома совсем печальный; Нюрка… очень удивилась; удивился Васька; обиделся Васька; Кольке обидно стало; Нюрка испугалась; все равно скучно. При этом дети изображены в соответствии с возрастными особенностями, и возраст детей-персонажей автор всегда или называет, или обозначает какими-нибудь косвенными, но легко угадываемыми признаками: Светлане из «Голубой чашки» шесть с половиной лет; Чука и Гека («Чук и Гек») автор называет «ребятишками»; Сереже Щербачеву («Судьба барабанщика») двенадцать лет; Жене из «Тимура и его команды» – тринадцать и т.д.
Продолжая классические традиции русской литературы в изображении детства, эмоциональные состояния своих персонажей писатель изображает не в статике, а в динамике. Например, переживание интереса может быть связано со страхом, с радостью; удивление может быть компонентом интереса и т.д.
Исследование темы объективации эмоций детей-персонажей в художественной литературе для детей, кроме литературоведческого аспекта, имеет и практическое литературно-педагогическое значение, вытекающее из диалогической природы художественной литературы. В практике литературного образования на любом уровне от дошкольного до основного среднего остается насущной проблема развитии эмпатии читателя. Начинающий читатель может «вчувствоваться» только в доступный материал, каковым и является детская литература с ее кругом тем и проблем. Особенности работы по толкованию художественных текстов состоят в том, что при этом активизированы «два наших ума»: «один думает, другой чувствует» [2, с. 25], поскольку произведение нужно и понять, и прочувствовать; называние и опознание эмоций объективировано/опосредовано образом и обликом персонажа; называние и опознание связаны непосредственно с эмпатией, поскольку поведение и настроение персонажа нужно и понять, и прочувствовать.
Список литературы Объективация эмоций детей-персонажей в произведениях А.П. Гайдара для детей
- Гайдар А. Собр.соч.: В 3 т. М.: Правда, 1986.
- Гоулман Д. Эмоциональный интеллект; пер. с англ. А.П. Исаевой. М.: АСТ МОСКВА. 2009.
- Изард К.Э. Психология эмоций. СПб: «Питер», 1999.
- Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве взрослых. СПб: Издательство «Питер», 1999.