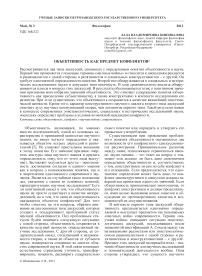Объективность как предмет конфликтов
Автор: Шиповалова Лада Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (132), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются два типа дискуссий, связанных с определением понятия объективности в науке. Первый тип проясняется с помощью термина «научные войны» и относится к дискуссиям реалистов и рационалистов с одной стороны и релятивистов и социальных конструктивистов - с другой. Он требует однозначной определенности понятия. Второй тип обнаруживается в социальных и исторических исследованиях науки и допускает многозначность. В ходе сравнительного анализа обнаруживаются плюсы и минусы этих дискуссий. В результате обосновывается тезис о позитивном значении признания многообразия значений объективности. Это отвечает содержанию понятия (объективность как преодоление субъективности), а также конструктивно в контексте исследования его развития. При этом существенно, что объективность сохраняется в качестве важнейшей эпистемической ценности. Кроме того, характер конструктивного научного диалога второго типа дискуссий отвечает духу научных коммуникаций скорее, чем догматизм первого типа. Такой результат важен в контексте современных эпистемологических, социальных и исторических исследований науки, поскольку определяет проблемы и условия возможной междисциплинарности.
Объективность, конфликт, "научная война", современность
Короткий адрес: https://sciup.org/14750418
IDR: 14750418 | УДК: 168.522
Текст научной статьи Объективность как предмет конфликтов
Объективность, являющаяся, по мнению многих исследователей, одной из основных характеристик и признанной ценностью научного знания, не имеет четкого определения и оказывается объектом острых дискуссий и разногласий [5]. Не удивляет пристальное внимание к этому понятию. Его значение призвано очертить контуры лица научного знания и придать определенность тому, кто от этого лица выступает. Заставляет задуматься другое – невозможность достижения согласия и единого мнения как в вопросе о возникновении понятия, так и в закреплении однозначного современного звучания. Является ли случайным такое положение дел, связанное с одним из основных понятий, характеризующих научные исследования? Есть ли позитивный смысл в том, что объективность науки не просто существует в качестве неопределенной, но в том, что сама ее определенность оказывается объектом конфликтов? Для того чтобы ответить на эти вопросы, обратим внимание на два основных типа дискуссий, которые создают и поддерживают проблемный статус научной объективности. Под проблемным статусом будем понимать следующую ситуацию: с одной стороны, объективность сохраняется в качестве ведущей ценности, определяющей научные исследования. С другой стороны, ее содержательный смысл, отсылающий к независимости теории, а также ее объектов от субъекта науки, подвергается сомнению во многих областях современной науки. В этой связи возникает естественное стремление уточнить, трансформировать, изменить, расширить содержательно
смысл понятия или оправдать и утвердить его привычное употребление.
Существенными при прояснении проблемного понятия объективности оказываются две возможности его конфликтного (дискуссионного) рассмотрения. Принципиальное различие между ними, позволяющее ограничиться именно двумя типами, – это ответ на вопрос о том, может или должно ли быть дано однозначное определение объективности и, соответственно, о том, конструктивен ли сам по себе конфликт в его отношении. Если предполагается, что однозначное определение может быть дано, то конфликт неконструктивен и дискуссии должны завершиться принятием одного из значений. Если объективность принципиально многозначна, то конфликт конструктивен и должен продолжаться, имея целью выявление новых смыслов и обсуждение их противоречивого единства и возможностей их сосуществования.
В контексте первого типа дискуссий объективность предполагается однозначно определяемой и выступает предметом так называемых «научных войн» современности. Термин «научная война» описывает ситуацию эпистемологических дискуссий, последовавших после знаменитой мистификации А. Сокала между так называемыми реалистами или эпистемологическими рационалистами с одной стороны и релятивистами и конструктивистами – с другой1. Предмет этих дискуссий на первый взгляд – значение объективности для научных исследований и познавательной деятельности вообще. Одна сторона утверждает, что сущность научного знания определяется единой природой его объектов, другая – многообразной культурой его субъектов. При этом создается впечатление, что первая сторона утверждает значение объективности для науки, а вторая его отрицает. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что обе стороны более или менее явно признают значение объективности, однако по-разному его определяют. В первом случае – как независимость теории и ее объектов от субъекта. Во втором случае – как интерсубъективность или как то, что имеет основание в исторически изменяющихся социальных научных практиках. Этот тип конфликтных дискуссий отличается невозможностью примирения сторон. Однозначность необходимого ответа на вопрос о том, существенна объективность для науки или нет, в данной ситуации не допускает двусмысленности в прочтении понятия. Потому, даже если у одной из сторон будут обнаружены ссылки на позитивное значение объективности как научной ценности, они не будут услышаны до тех пор, пока не будет признано именно то значение термина, которое предполагает другая сторона. В этом смысле борьба идет не просто за признание объективности как ценности, но за единственность и точность значения понятия.
Непримиримость позиций в данной ситуации и неспособность противников слышать друг друга может быть отчасти объяснена претензией сторон на единоличную власть независимо от того, чем эта власть удостоверяется и в чем выражается – в праве на экономическую поддержку, в признании в качестве ведущих авторитетов в научном сообществе или в возможном политическом участии в той или иной форме. Главное здесь – что эта власть единолична, а значит, предполагает единое и универсальное основание, которое в философской традиции было ранее названо трансцендентальным субъектом, формы суждения которого в своей всеобщности и необходимости не должны допускать множественности, вариативности, плюрализма, противоречий. Только этой претензией можно объяснить неспособность одной стороны (стороны релятивизма) заметить, что на уровне здравого смысла для всех очевидно, что наука всегда есть «теория действительности», что это – простейший смысл объективности и спорить с этим – выходить за рамки языка повседневности, что невозможно. Только этой претензией можно оправдать нежелание другой стороны (стороны реализма и рационализма) увидеть за этим здравомыслием историю понятия науки, полную неожиданных разворотов, таинственность которых раскрыть самой науке не под силу. Радикальность разногласий связана с тем, что в определении объективности, а также описании тех конкретных практик, в которых она достигается, конфликтующие стороны исходят из разных предпосы- лок, не подвергая их сомнению и не замечая, что сами эти предпосылки – социальные интересы субъектов или идея «независимой реальности» были сформированы в ходе исторических трансформаций и их противоречие может и должно быть понято как конструктивное. Это различие догматически принятых предпосылок приводит к тому, что конфликт в данной ситуации должен вести к собственному завершению – уничтожению противника как значимого авторитета в области исследований науки.
Любопытно, что если посмотреть на позиции спорящих вне ситуации спора, то обнаружится возможность относительной совместимости значений, возможность перевода смыслов.
Так, например, определяемая «конструктивистом» Б. Латуром объективность как способность предмета возражать (to object), «давать сдачи», несомненно, предполагает предметы знания как существующие независимо от исследователя (определение, под которым подпишется так называемый реалист) [2]. Любопытно подчеркнуть проблематичность этого качества объектов: с одной стороны, это независимость, свобода действовать по собственной природе, быть достойными собственного языка. С другой стороны, эту независимость как раз и должны предоставить ученые для того, чтобы вещь раскрылась как вещь. При этом объективность не отрицается, но напротив, становится задачей научного поиска, действия научных субъектов и состоит в том, чтобы позволить объекту влиять на результат. Представление о том, что научные объекты конструируются учеными исходя из их социальных интересов, было бы также не вполне корректной интерпретацией идей Латура, поскольку даже в более ранних работах он пишет о том, что Общество (субъект) в той же мере конструируемо, как и Природа (объект) в непосредственном научном опыте [10; 99, 144].
Что касается рационализма, то, например, понятие постнеклассической научной рациональности, введенное классиком отечественной эпистемологии В. С. Степиным, предполагает, что объективность в современных научных исследованиях определяется необходимостью учитывать при исследовании объекта идеалы и ценности субъекта деятельности [4; 633–634]. В этом смысле такое понимание объективности не так уж далеко от признания определенной правоты установок социальных исследований науки.
Однако эта относительная совместимость чаще остается скрытой от защитников указанных позиций, поскольку для них важна собственная однозначная правота, а не возможность и тем более необходимость выслушивания мнения противника.
Итак, первый способ «обсуждения» понятия объективности предполагает однозначность понятия и тем самым сведение его лишь к терми- ну, который не имеет в своем основании явного противоречия и возможности многообразных интерпретаций. То, что достигается при этом, – строгость определений, лежащих в основании исследования, научная серьезность и упорство в поиске эмпирических и теоретических аргументов в их пользу, а также разделение дисциплинарных пространств (в частности, пространств эпистемологии и социальных исследований науки). То, что оказывается упущенным, – возможность развития понятия и, соответственно, программ научных исследований из-за неспособности к диалогу и взаимодействию с противником.
Вторая возможность конфликтов по поводу понятия объективности может быть раскрыта с помощью герменевтического понятия «конфликта интерпретаций» П. Рикера. Здесь принципиальна возможность взаимной дополнительности позиций, которая сама по себе должна быть еще исследована. Сборник статей «Переосмысление объективности» представляет собой один из ярких примеров обнаружения такого конфликта. Один из возможных поводов переосмысления термина объективности – напряжение между его частым использованием в академическом и публичном дискурсе и неоднозначностью его смысла. Именно задача определения типов многообразных употреблений термина стояла перед редактором сборника А. Мегиллом [11]. Во введении он определяет четыре смысла объективности, которые более или менее выраженно присутствуют в статьях сборника, представляющих различные направления современных философских и научных исследований. Эти смыслы часто взаимосвязаны и переплетены в конкретных научных практиках, но могут быть концептуально различны. Первый смысл объективности – философский, или абсолютный, который производен, хотя не может быть отождествлен с идеей «репрезентации вещей как они есть». Этот смысл играет значительную роль в современной философской традиции. Он определяет стремление к неискаженному пониманию реальности, стремление, которое должно разделять любое исследование. Второй смысл – дисциплинарный, который предполагает согласие того или иного научного сообщества по поводу конкретной определенности стандартов объективности. Третий – диалектический смысл, определяющий в качестве значимого взаимодействие субъекта и объекта знания. Четвертый – процедурный смысл. Он связан с определением конкретных внеперсональных методов научного исследования и администрирования. В завершающем разделе введения автор предупреждает против ожиданий разрешения проблемы объективности, за которым, возможно, стоит предчувствие единого смысла. Цель, которую осуществляет данное издание, – осветить многообразие перспектив рассмотрения темы. Мораль, которую читатель мог бы приписать тексту А. Мегилла, состоит в том, что объективность может (и должна) быть сохранена в качестве значимой характеристики научных исследований не в последнюю очередь благодаря многообразию ее смысловых прочтений. Подвергаемая сомнению в одном смысле, она тем не менее утверждается в другом2.
То же многообразие смыслов понятия «объективность» можно обнаружить в работах Л. Дэ-стон, некоторые из них написаны в соавторстве с П. Галисоном [1], [8], [9]. Однако, если из двух перечисленных выше «дискуссий» проблематично извлечь смысл многообразия определений объективности в их единстве и необходимой дополнительности, то в работах Л. Дэстон и П. Галисона можно найти ответ на этот вопрос. Симптоматично название одной из первых статей, посвященных данной теме, – «Образ объективности», в которой речь идет о механической объективности как об одном из образов того, что по сути своей и по факту исторического функционирования в реальных научных практиках много-образно. Среди этих образов коммунитарная объективность, выступающая ценностью научных исследований в области ботаники, механическая – преследуемая по преимуществу в области физиологии, структурная – обнаруживающая свою значимость в математике.
Объективность в работах Л. Дэстон обретает содержательность и полноту неслучайных многообразных вариаций. Она перестает быть вечной идеей, всегда уже предположенной научному исследованию, и становится объектом человеческой заботы; не только ясной и отчетливой целью, но предметом необходимых изменений. Ореол вечной ценности снимается с объективности хотя бы уже тем, что ставится вопрос о ее возникновении, причем это возникновение не связывается ни с началом европейской культуры и научности, ориентированной по преимуществу на математический идеал в античной культуре, ни с научной революцией XVII века. По мнению Л. Дэстон, наука могла существовать без выраженного утверждения объективности как ценности в современном значении этого термина; отождествление научности и объективности представляется неконструктивным и искажающим не только смысл понятия, но и реалии научных исследований. Стремление к объективности как независимости от субъекта возникает лишь тогда, когда становятся в высшей степени угрожающими научному исследованию человеческие, слишком человеческие черты субъекта науки. Сиюминутность увлечений, ограниченность интересов, захваченность страстями, определенность теоретических перспектив, ограниченность пространственного и временного опыта – все это всегда было с человеком, никогда ранее, однако, не претендовавшим на то, чтобы быть предельным основанием пол- ного и универсального познания мира. Только в контексте этой претензии, выражением которой является путь философской мысли, пройденный от Декарта до Канта, преодоление эмпирического субъекта становится важной, однако бесконечной и практически безнадежной задачей. Эта задача сопровождает и определяет существо научного исследования в качестве его базовой ценности, ценности объективности. Именно эту бесконечность и безнадежность задачи преодоления эмпирического субъекта символизирует необходимое изменение образов объективности. Так, например, появившаяся в XIX веке механическая объективность, практики которой связаны с точностью и индивидуальностью образов, создающихся с помощью фотографии и самопишущих устройств, преодолевающих возможную теоретическую ангажированность ученого и тем самым его волю к реализации определенной схемы видения природы, в XX веке сменяется объективностью структурной [2; 253–296]. Возникновение нового идеала научной объективности объясняется осознанием невозможности полного преодоления субъективности на путях механической объективации. «Механическая объективность оказывается никогда не достижимым идеалом», поскольку сами практики, связанные с ней, нуждаются в субъекте в определенной позиции видения, способном на интерпретацию показаний приборов, обладающим определенным уровнем знаний [8; 185]. В новой ситуации идеала структурной объективности объектом критики и преодоления выступает уже не субъект воля-щий, но субъект частный, со своим экспериментальным миром. Ставится задача отбросить уже не теоретические предпочтения, отдавшись конкретному видению индивидуального предмета исследования, но все собственные ощущения и идеи ради актуализации формальных структур мышления, «общих всем разумным существам» [8; 257]. Образцом научности, реализующей ценность структурной объективности, оказывается уже математика. Понятно, что в этой ситуации многообразие смыслов объективности, дополняющих друг друга, является необходимым, поскольку оно симметрично многообразию тех никогда окончательно не преодолимых определений эмпирического субъекта, редукцией которых озабочена современная наука в лице трансцендентального субъекта.
Может возникнуть некоторое сомнение, не релятивизирует ли такой подход смысл объективности, а через него и смысл самой научности. Подкрепляет это опасение то соображение, что в рассмотренных работах не только многообразие ликов объективности утверждается как необходимое, но и сама объективность ставится в ряд иных эпистемических ценностей, которые не так уж чисты в смысле стремления к редукции эмпирической субъективности. Причем многообразие этих ценностей, как и в случае с объективностью, описывается на основании анализа научных практик в различных областях исследований XVIII–XX веков. Среди них – «верность природе» и «подготовленное суждение» (trained judgement). Любопытно, как определяется историческое взаимоотношение указанных ценностей. «Возникновение объективности как новой эпистемической ценности в XIX веке не уничтожает предшествующий научный идеал “верности природе”, так же как и поворот к “подготовленному суждению” в XX веке не элиминирует объективность». Скорее речь идет о некоторой пролиферации и их усложняющемся взаимодействии в пространстве научных практик. Образ этих историко-научных трансформаций – карта звездного неба: появившаяся новая звезда не замещает старую, но изменяет конфигурацию небесных светил [8; 18].
Для того чтобы ответить на это сомнение, нужно повторить поставленный в начале статьи вопрос о конструктивном смысле неоднозначного определения научной объективности, о конфликте ее интерпретаций, который не должен быть завершаем. Отчасти ответ на него уже был дан в контексте критики первого типа конфликтных дискуссий. Борьба за однозначность терминологического звучания лишает понятие объективности развития и тем самым закрывает возможность работы над современным смыслом проблемы. Борьба за строгость понятия не отвечает и существу многообразных научных практик, организуемых стремлением к объективности как ценности науки.
Еще один ответ на этот вопрос может быть связан с определением современного смысла научной рациональности. Если субъект современности, выживший во всех контекстах, обоснованно провозглашающих его смерть, все же продолжает существовать, оставаясь при этом в том числе субъектом науки, то ему как современному субъекту пристало быть субъектом историческим. Это значит постоянно переступать свои пределы, свою определенность и однозначность [6]. Как ни странно, в противоположность мнению тех, кто опасается за науку и ее значение для современного человечества, эта историчность не противостоит требованию объективности. Она обнаруживается в конкретных научных исследованиях, в формировании себя научным субъектом, знающим о своей необходимой эмпирической определенности и преодолевающим ее. Стремящимся тем самым к объективности, всякий раз по-новому, на историческом бесконечном пути безнадежного, но не бессмысленного стремления.
* Работа подготовлена при поддержке гранта РГНФ. Проект № 12–03–00560.
OBJECTIVITY AS SUBJECT OF CONFLICT
Список литературы Объективность как предмет конфликтов
- Дэстон Л. Научная объективность со словами и без слов//Наука и научность в исторической перспективе. СПб.: Алетейя, 2007. С. 37-71.
- Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки//Вестник МГУ. Сер. «Философия». 2003. № 3. С. 20-39.
- Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 744 с.
- Шиповалова Л. В. Объективность в науке. Основные контексты философской проблемы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://philosophy.spbu.ru/library
- Фуко М. Что такое просвещение?//Ступени. Петербургский альманах. 2000. № 1 (11). С. 136-148.
- Broun J. R. Who Rules in Science? An Opinionated Guide to the Wars. Cambridge; London: Harvard University Press, 2001. 236 p.
- Daston L., Galison P. Objectivity. N. Y.: Zone Books, 2007. 502 р.
- Daston L., Galison P. The Image of Objectivity//Representation. 1992. Aut. № 40. Special Issue: Seeng Science. P. 81128.
- Latour B. Science in Action. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. 302 p.
- Megill A. Introduction: Four Senses of Objectivity//Rethinking Objectivity/Ed. by A. Megill. Durham; London, 1994. P. 1-20.
- Микешина Л. А. Релятивизм как эпистемологическая проблема. Панельная дискуссия: Микешина Л. А., Розов М. А., Касавин И. Т., Никифоров А. Л., Мамчур Е. А. Маркова Л. А., Дубровский Д. И.//Эпистемология и философия науки. М., 2004. Т. 1. № 1. С. 53-83.
- Розов М. А. Релятивизм как эпистемологическая проблема. Панельная дискуссия: Микешина Л. А., Розов М. А., Касавин И. Т., Никифоров А. Л., Мамчур Е. А. Маркова Л. А., Дубровский Д. И.//Эпистемология и философия науки. М., 2004. Т. 1. № 1. С. 53-83.
- Касавин И. Т. Релятивизм как эпистемологическая проблема. Панельная дискуссия: Микешина Л. А., Розов М. А., Касавин И. Т., Никифоров А. Л., Мамчур Е. А. Маркова Л. А., Дубровский Д. И.//Эпистемология и философия науки. М., 2004. Т. 1. № 1. С. 53-83.
- Никифоров А. Л. Релятивизм как эпистемологическая проблема. Панельная дискуссия: Микешина Л. А., Розов М. А., Касавин И. Т., Никифоров А. Л., Мамчур Е. А. Маркова Л. А., Дубровский Д. И.//Эпистемология и философия науки. М., 2004. Т. 1. № 1. С. 53-83.
- Мамчур Е. А. Релятивизм как эпистемологическая проблема. Панельная дискуссия: Микешина Л. А., Розов М. А., Касавин И. Т., Никифоров А. Л., Мамчур Е. А. Маркова Л. А., Дубровский Д. И.//Эпистемология и философия науки. М., 2004. Т. 1. № 1. С. 53-83.
- Маркова Л. А. Релятивизм как эпистемологическая проблема. Панельная дискуссия: Микешина Л. А., Розов М. А., Касавин И. Т., Никифоров А. Л., Мамчур Е. А. Маркова Л. А., Дубровский Д. И.//Эпистемология и философия науки. М., 2004. Т. 1. № 1. С. 53-83.
- Дубровский Д. И. Релятивизм как эпистемологическая проблема. Панельная дискуссия: Микешина Л. А., Розов М. А., Касавин И. Т., Никифоров А. Л., Мамчур Е. А. Маркова Л. А., Дубровский Д. И.//Эпистемология и философия науки. М., 2004. Т. 1. № 1. С. 53-83.