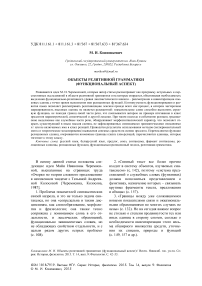Объекты релятивной грамматики (функциональный аспект)
Автор: Конюшкевич Мария Иосифовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Развиваются идеи М. И. Черемисиной, которые автор статьи рассматривает как программу актуальных и перспективных исследований в области релятивной грамматики и на которые опирается, обосновывая необходимость выделения функционально-релятивного уровня лингвистического анализа - рассмотрения и инвентаризации языковых единиц с точки зрения выполнения ими реляционных функций. Континуумность функционирования и развития языка позволяет рассматривать релятивизацию лексики прежде всего как процесс, в котором частеречная маркированность языковых единиц не является релевантной: знаменательное слово способно выполнять строевую функцию, не покидая границ своей части речи, что показывается автором на примере втягивания в класс предлогов параметрической, соматической и другой лексики. При таком подходе и собственно реляции, традиционно выделяемые как служебные части речи, обнаруживают морфосинтаксический характер, что позволяет от-крыть существующий в языке массив единиц, не зафиксированных имеющимися грамматическими описаниями и / или не включаемых ими в класс реляций. Приводятся результаты использования методов (экспериментальный метод и теоретическое моделирование) выявления союзных средств на основе предлога. Перечисляются функции реляционных единиц, очерчиваются возможные границы класса слов-реляций, перечисляются единицы, которые тяготеют к этому классу.
Русский язык, белорусский язык, предлог, союз, синтаксема, формант синтаксемы, ре-ляционные единицы, реляционные функции, функционально-реляционный подход, релятивная грамматика
Короткий адрес: https://sciup.org/147219465
IDR: 147219465 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Объекты релятивной грамматики (функциональный аспект)
В основу данной статьи положены следующие идеи Майи Ивановны Черемисиной, высказанные на страницах труда «Очерки по теории сложного предложения» в неизменном тандеме с Татьяной Андреевной Колосовой [Черемисина, Колосова, 1987].
-
1. Проблема показателей синтаксических связей назрела, и это не только задача синтаксиса, но она «сопредельна и таким дисциплинам, как словообразование, морфология и фразеология; она также тесно сопряжена с пониманием слова в его отдельности, и лексических образований, функционально эквивалентных словам, но не обладающих свойством отдельности, и с целым рядом других острых проблем» (с. 108).
-
2. «Связный текст все более прочно входит в систему объектов, изучаемых синтаксисом» (с. 142), поэтому «система представлений о служебных словах (функтивах) должна пополниться представлением о функтивах, назначение которых – связывать крупные фрагменты текста, предложения и абзацы» (с. 157).
-
3. «Границы между уже сложившимися новыми показателями связи и окказиональными образованиями во многих случаях не ясны» (с. 132). Но на сегодня важнее вопрос не столько о степени продвинутости тех или иных единиц в сторону союзов, сколько о необходимости инвентаризации этого весьма обширного множества средств, уточнения их списков, природы и функций (с. 149, 157 и др.).
Конюшкевич М. И. Объекты релятивной грамматики (функциональный аспект)// Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9: Филология. С. 42–53.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 9: Филология © М. И. Конюшкевич, 2015
-
4. «Нужно уточнить понятие совмещения функций» (с. 140); «…употребление одного фонемного (графемного) комплекса в разных служебных ролях, в частности в ролях союза и частицы, не ведет к разрушению лексико-семантического тождества слова; семантика такого слова отнюдь не меняется непредсказуемым образом, а лишь варьирует вокруг функционально-семантического инварианта» (с. 141).
-
5. «Склонение предложений, известное всем алтайским языкам, японскому, корейскому, уральским, кавказским и многим другим, русскому языку, в силу его флективной природы, не свойственно…, тем не менее управление, исходящее от главного сказуемого и направленное на зависимую ПЕ, и по-русски выражается с помощью падежей и их уточнителей – предлогов, только крепятся они не непосредственно к сказуемому зависимой части, стоящему в ее финале, а к инициальному местоименному компоненту скрепы» (с. 148). «Мы подходим к тому моменту, когда предметом лингвистического исследования должен стать не какой-то конкретный язык, а человеческий язык вообще, единый в своей сущности, хотя и представленный бесчисленным множеством вариаций» (с. 181).
-
6. Сложность союзных средств для исследования объясняется не столько их многочисленностью, сколько «теми процессами, которые протекают в этой сфере в наши дни. Множество скреп находится в процессе перестройки, формирования не только новых скреп, но и новых типов скреп. В результате на поверхности языка часто оказываются такие единицы, которые находятся на пути перехода из одного разряда в другой. … Многие знаменательные слова, регулярно воспроизводимые в составе сложного предложения, постепенно утрачивая свою знаменательность, приобретают признаки служебных слов и, конкретнее, союзных скреп или их компонентов» (с. 124).
-
7. Применительно к связующим средствам «мы сталкиваемся с “дефицитом” терминов» (с. 137). «Возможно, было бы оправданным термин “союз” переосмыслить, перевести из разряда “частеречных” в термины, представляющие синтаксические функции. Тогда позиция разного рода “сопроводителей при союзе” оказалась бы естественной и закономерной» (с. 179).
-
8. «Мы пока не умеем проводить четкое различие между служебным словом (функ-тивом) как субстанциональной единицей языка и теми функциями, которые это слово (функтив) выполняет и может выполнять» (с. 157).
-
9. «Если мы хотим избежать внутренних противоречий, мы должны сначала проработать классификацию, выдержанную в одном направлении, после чего приступать к построению другой…» (с. 179).
-
10. «Укрупнение, утяжеление связываемых блоков, весьма возможно, требует вовлечения в систему показателей связи уже не только отдельных слов и их соединений, но и разного рода синтаксических построений, включая и предикативные единицы» (с. 180).
Порядок перечисления приведенных положений в данном случае не имеет значения. К отмеченным мыслям из указанного труда мы будем апеллировать и в процессе наших рассуждений.
Процесс формирования служебной лексики и, шире, релятивного потенциала языка в целом особенно активно происходит в наше время (см. п. 6 выше), что обусловлено динамичностью информационных потоков, многомерностью и многообразием путей и средств коммуникации; активизацией политических, экономических, культурных связей, стимулирующих межъязыковые контакты; расширением и углублением научной картины мира, формирующей в языке терминологические подсистемы самых различных предметных областей; «языки для специальных целей создают собственные, достаточно сложные синтаксические конструкции, которые могут быть специфичны…» [Лейчик, 2007] (см. п. 10 выше. – М. К. ).
Проиллюстрируем сказанное рядом примеров из области предлога. Традиционно «настоящих» предлогов в русском языке выделяется около полусотни, но в нашей речи давно функционируют единицы, способные выполнять и выполняющие предложную функцию, однако ни словарями, ни грамматиками эта их предложная функция не фиксируется. Не случайно именно этот класс релятивных единиц вызвал усиленный интерес лингвистов в ряде стран. Только в России можно назвать несколько научных коллективов по изучению предложной сис- темы русского языка: Дальневосточный университет [Шереметьева, 2008], Челябинский университет [Шиганова, 2003], Белгородский университет [Ушакова, Гальченко, 2000; Гальченко, 2004].
Но самым масштабным можно назвать открытый межнациональный проект «Грамматика славянского предлога», инициированный профессором Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова М. В. Всеволодовой [Всеволодова, 2003; 2004; Всеволодова, Кукушкина, Поликарпов, 2014]. Кроме российских ученых в проекте участвуют также лингвисты Беларуси, Украины, Польши, Болгарии, Сербии. Несмотря на различия в подходах и в использовании терминологии (см. п. 7 выше), изучение категории предлога заметно ориентировано на выход за пределы морфологии – в синтаксис (см. п. 7 выше). Концепция участников указанного выше проекта – рассматривать предлог не только как морфологическую категорию (предлог-1), но и как морфосинтаксическую категорию (предлог-2). Предтечей этой концепции можно считать работу белорусского лингвиста П. П. Шубы [1971], который допускал, что слово может выполнять функцию предлога, не покидая границ своей части речи, и на этом основании рискнул включить в свой словарь белорусских предлогов уже более 500 единиц [Шуба, 1993].
В результате такого подхода количество единиц, зафиксированных в функции предлога, стало исчисляться тысячами. И это явление касается не только русского языка (см. п. 5 выше). Так, наш реестр белорусских предлогов и их аналогов составил 10 тысяч без 8 единиц [Канюшкевіч, 2008– 2010], и вряд ли этот список конечен. На материале украинского языка список единиц, названных предлогами, насчитывает 1 705 вхождений [Загнiтко, 2007]. Нам неизвестно точное число единиц в находящихся в печати «Материалах к словарю русских предложных единиц (предлоги и их эквиваленты)», составленных коллективом под руководством М. В. Всеволодовой, но еще недавно его авторы при обсуждении вопросов проекта называли количество 5 тысяч – с оговоркой, что перечень не полон. Список вторичных польских предлогов, составленный Б. Милевской, насчитывает 227 единиц [Мilewska, 2003], а реестр польских предлогов и изофункциональных им единиц, со- ставляемый профессором Ч. Ляхуром (Польша, Ополе), – на порядок больше (с любезного разрешения проф. Ляхура мы знакомы с его реестром в еще не завершенном виде).
О том, что этот класс служебной лексики активно пополняется в результате названных выше процессов, свидетельствуют наблюдения над параметрической лексикой, втягиваемой в поле предлога. Так, огромное количество лексем, называющих физические свойства объектов, естественных или созданных человеком, способно выступить некоторыми своими словоформами в предложной функции. Это номинации геометрических параметров ( ширина , длина , высота , глубина , объем , периметр , окружность и т. д.), внешних и внутренних свойств предметов ( масса , вес , плотность , сопротивление , напряжение , мощность ) и т. д.
Вырисовалась модель деривации параметрических предлогов, в основу которой легла форма творительного падежа субстан-тива, называющего свойства объекта, в сочетании с аппроксиматорами и первооб-разным(и) или производным(и) предло-гом(ами), образующим(и) многословные предложные выражения, формирующие не менее сложные количественно-именные синтаксемы. Описание данной лексики в предложной функции на материале русского и японского языков см. в кандидатской диссертации Р. Судзуки, выполненной под руководством М. В. Всеволодовой [2008], а сопоставление ее в русском и белорусском языках – в [Сентябова, 2007; Плешкова, 2008]. Подобных единиц в русском языке насчитывается около двух тысяч, например: глубиной / с глубиной / с глубиной свыше / с глубиной более / с глубиной более чем / с глубиной до более чем на [сколько единиц] / с глубиной от [скольких единиц] до [скольких единиц]; на глубине более чем [сколько единиц] и т. д. В белорусском же их оказывается еще больше за счет вариантов с за и як : глыбiнёй больш за сто метрау / глыбiнёй больш як сто метрау и т. д.
Обнаруживаются все новые и новые свойства объектов, требующие введения единиц измерения этих свойств, например: вода с минерализацией 4 , 3 %; майонез калорийностью 120 кал; землетрясение магнитудой до 4 баллов по шкале Рихтера; молоко жирностью не менее чем до 3 %;
автобус пассажировместимостью свыше 108 чел. Модель может получать дальнейшее развитие, в ней имеется двухчастная структура с дистрибутивным значением: земли с урожайностью до 90 центнеров с гектара ; завод с продуктивностью свыше 600 комбайнов в год ; езда со скоростью 120 км в секунду. Продуктивность модели подтверждается и случаями ее переносного употребления: юмор пошлостью в семь петросян (из телепередачи).
Приведенные примеры дают основание предполагать, что выявление и фиксацию единиц, входящих и / или стремящихся в поле предлога, можно вести не только на фактах речевой практики, что представляется весьма трудоёмким и времяёмким делом, но и экспериментально, исчисляя потенциал деривационных моделей, по которым те или иные лексемы проходят процесс опредло-живания. Этим же путем определяются и падежные словоформы знаменательных лексем, способные выступить в роли релятивной единицы; например, некоторые параметрические существительные позволяют пятипадежную парадигму релятивных словоформ: дойти до глубины 100 м / прибли зиться к глубине 100 м / опуститься на глубину 100 м / кратер глубиной 100 м / остановиться на глубине 100 м . Невозможна в релятивной функции лишь форма номинатива: любые контексты с номинативом обнаруживают категориальность субстанти-ва глубина : Глубина кратера составляет 120 м .
В качестве реляционной единицы может быть использовано и конкретное предметное существительное типа дно , край , маска , канва , задворки ( на дне души , у края жизни , под маской правозащитника , на канве истории , на задворках цивилизации ), и даже соматизм, т. е. название неотторгаемого органа тела человека: глаза , уши , руки , ноги , сердце и т. п.
К примеру, если соматизм выступает в форме творительного падежа, первичное значение которого как раз и есть орудийное, то он приобретает способность выполнить функцию форманта синтаксемы с инструментным значением, а в качестве ее лексического компонента выступает субстантив, называющий обладателя того или иного органа, служащего орудием действия: Устами младенца глаголет истина; Сердцем матери она почувствовала опасность, грозя- щую сыну; На Беларусь надо посмотреть глазами зарубежного туриста; Второго бандита убрали руками его же подельников.
Предложная функция формы творительного орудийного в выделенных синтаксемах подтверждается его синонимией с другими реляционными единицами: На Беларусь надо посмотреть как иностранный турист / в качестве иностранного туриста / будучи иностранным туристом ; Опасность , грозящую сыну , она почувствовала , потому что / так как / ибо была матерью.
Например, лексема лицо явила русскому языку три своих словоформы в качестве предлога: Перед лицом товарищей клянусь ...; в лице Ивана Ивановича мы потеряли замечательного специалиста ..; от лица нашего коллектива заверяю... В белорусском языке в предложной функции для них имеется больше соответствий: перад асобай таварыша / перад асобамi тава-рышау ; у асобе 1вана / у асобах аргангза-тарау ; ад iмя нашага калектыву / ад iмён нашых таварышау , т. е . в белорусском языке указанные словоформы в предложной функции сохранили не только падежную, но и числовую парадигму.
В белорусском языке в предложной функции зафиксированы словоформы 16 со-матизмов и их дериватов ( галава , волас , вушы , твар , чало , вочы , нос , вусны , плечы , рук/ , бок , сп1на , лона , ног/ , пяты , скура ), что в общей сумме составило свыше 300 предложных единиц. Только одна лексема бок дала более 60 предлогов и их аналогов: убок / у бок дарог1 , убаку ад дарог1 , убок ад / у бок ад суседа , у бок да лагчыны , узбоч лесу , узбоч ад поля , убок з гасцшца , адно побач аднаго , збоку / з боку суседа , збоку ля сажалкг , збоку у лагчыне , побач бацьк1 , побач з бацькам , побач ля дзвярэй , побачкi з мац1 , побач на ложку , побач-побач з бра-там , пры боку пабудовы , упобачкi матк1 , упобачкi з маткай , па баках вазка , па баках ад будынка , пад бокам у жонкг.
В предложные сочетания с лексемой бок могут быть включены конкретизаторы -прилагательные правы, левы, супрацьлеглы, заходнг, усходш, пауночны, пауднёвы, указательные и определительные местоимения той, гэты, усе, числительные адз1н, другг, абодва: па гэты / той бок Дняпра; у за-ходнм / усходнм / пауднёвым / пауночным баку пушчы; у правым / левым баку ад во- зера; па абодва бакі ад сцежкі; па адзін бок шашы; па адзін і другі бок ракі; па правы бок ад жаніха и др. (подробнее см. [Ка-нюшкевіч, 2008–2010]).
Таким образом, фиксация единиц, изо-функциональных предлогу, помогает выявить массив знаменательной лексики, способной к предложной функции, и нацеливает на инвентаризацию (см. п. 1, 3 выше) всего релятивного потенциала номинаций. Ведь чем больше значений у слова, чем чаще оно выступает во вторичной функции, тем оно синтаксически связаннее.
Беспредельные ономасиологические и релятивные возможности языка потому и существуют, что конструктивная ограниченность одного средства компенсируется конструктивными возможностями другого (тоже, конечно, до определенных границ). Отлитых грамматических форм в каждом языке не так уж и много, зато синтактика языка обладает безграничными возможностями.
Думается, что задача лингвистики на сегодняшнем уровне ее развития – изучение тех языковых процессов и механизмов, которые раскрывают эти синтаксические возможности языка, позволяющие объединяться разным грамматическим конструктам в рамках одной функции. И если функционально-семантическая (т. е. ономасиологическая) сторона русского языка получила достаточно полное описание в работах многих научных функциональных школ, то функционально-релятивный потенциал языковых единиц только начинает исследоваться.
Назрела необходимость выделения еще одного уровня лингвистического анализа – уровня релятивной грамматики, на котором конструкт грамматики, в частности частеречная маркированность реляционных средств, не является релевантным. Привычные для традиции частеречные рамки союзов, предлогов, частиц требуют, как справедливо отмечено в п. 1 и 7, выхода в синтаксис, т. е. реляционные единицы должны рассматриваться как морфосинтаксические категории.
Втягивание знаменательного слова в подсистему реляций имеет континуумный характер, а маркирует эту континуумную шкалу множество признаков, отражающих релятивизацию лексики прежде всего не как результат, а как процесс, относящийся не столько к морфологии и частеречной принадлежности, сколько к семантике и синтаксису. В релятивной функции уравниваются не только морфологические, но и другие единицы – словообразовательные, лексические, синтаксические (см. п. 1 выше).
На сегодня система реляционных средств языков не определена, не установлен их инвентарь и специфика функций в рамках каждого типа отношения, не описана иерархия самих отношений. Задача лингвистов – представить во всей полноте факты реального употребления строевой лексики русского языка, показать релятивный потенциал языка и тем самым заложить основы релятивной грамматики.
Для этого у лингвистики есть прочный фундамент, прежде всего в области синтаксических классификаций лексики, т. е. выявление того потенциала, с каким слово входит в высказывание. Синтаксические классификации лексики показали, что границы между знаменательными и незнаменательными частями речи с функциональной точки зрения расплывчаты и проницаемы. Выявлен огромный релятивный потенциал существительных, прилагательных, глаголов [Всеволодова, 2000].
Но объем и функционально-коммуникативные границы строевой лексики остаются неясными. Думается, что следует выявить спектр функций, выполняемых реляционными единицами (в соответствие номинациям можно называть их реляциями). При этом необходимо учитывать ряд моментов.
-
1. Назначение реляции в языке одной функцией не исчерпывается.
-
2. Реляционные функции могут выполнять и знаменательные слова.
-
3. Каждая реляционная единица имеет несколько (определенный набор) функций, причем последние не лежат в одной плоскости.
-
4. В зависимости от количества и специфики выполняемых ими функций реляции могут быть представлены разными функциональными классами, отличными от традиционных частей речи.
-
5. Одни и те же фонетические и графические комплексы могут быть совершенно разными единицами по спектру выполняемых функций (например, слово то в структуре определительных, изъяснительных, вмещающих и обстоятельственных
-
6. Единицы одного и того же лексикограмматического класса могут различаться наборами своих функций, кроме той инвариантной, которая объединяет их в этом классе. Например, класс союзов объединяет собственно союзы, союзные сочетания, кор-релятно-релятные блоки, фразеосхемы.
-
7. У разных лексико-грамматических классов реляционных единиц некоторые функции из набора могут совпадать. К примеру, и предлог, и союз сходны в выражении функции введения словоформы в основное высказывание: ср. обособленные обороты с предлогами включения типа в числе , включая и союзом включения в том числе и ; к этому же классу можно отнести и предлог при , оформляющий уступительную синтаксему ( Как ты , при твоей аккуратности и опрятности , так измазался? ), и сравнительные союзы, вводящие сравнительный оборот в основное высказывание.
-
8. Для некоторых функций реляционных единиц частеречные границы нерелевантны. К примеру, для функции связки нерелевантно, является ли связка отвлеченной или знаменательной ( Он герой – Он является героем – Он выглядит героем – Он вернется героем ), местоименной или глагольной: Любить – это / значит стремиться быть лучше. Точно так же можно усмотреть одинаковую функцию выражения кажимости разными частями речи в следующих высказываниях: предлогом ( Преступник проник в квартиру под видом страхового агента ), деепричастием ( Преступник проник в квартиру , назвавшись страховым агентом ), частицей-связкой ( Преступник проник в квартиру как страховой агент ).
-
9. Возможна классификация реляционных единиц, базирующаяся на объединении их в классы на основе только одной функции. Одна и та же реляционная единица имеет возможность входить в такое количество классов, сколько функций в ее наборе. А для подобного описания необходимо выяснить, каков спектр функций у каждой части речи и у каждого слова, входящего в эту часть речи, ибо полевый характер языка обусловливает неравное количество функций у слов, относящихся к одной и той же части речи.
сложных предложений представлено четырьмя разными классами).
Вместе с тем в рамках и собственно реляционного фонда есть свои особенности, от которых зависит формирование того или иного класса реляций. Так, отмеченная М. В. Всеволодовой способность предлога образовать союз была исследована нами на материале некоторых белорусских [Конюш-кевич, 2013] и русских [Конюшкевич, 2014] предлогов. Наша концепция такова:
-
1) синтаксема – это одна актантная позиция в предложении независимо от того, сколько слов составляет структуру син-таксемы;
-
2) структура синтаксемы состоит из форманта (предлог + флексия) и номинативного компонента (субстантив или его субститут);
-
3) на уровне сложного предложения ту же самую актантную позицию может занять предикативная единица (придаточная часть сложноподчиненного предожения). Мы солидарны с Т. В. Шмелевой в том, что различие между простым и сложным предложением слишком преувеличено устоявшейся традицией, ибо для коммуникации это лишь разные способы « технического решения языкового воплощения полипро-позитивной семантической структуры» [Шмелева, 2010. С. 122] (выделено автором цитаты. – М. К. );
-
4) формантом предикативной синтаксе-мы в трансформах выступает союзное сочетание «предлог + то + союз / союзное слово придаточной части».
Пункты 3 и 4 концепции опираются на идеи М. И. Черемисиной (личные или в соавторстве): показатель связи (иначе – номи-нализатор) «организован сложнее обычных многокомпонентных союзов. Его компоненты, то и что, четко разделены интонационно и пунктуационно, но линейно они связаны жестко: то всегда непосредственно предшествует союзу что» [Черемисина, 1982. С. 12], причем «номинализатор то, что (где что – союз) остается за пределами предложения, подвергающегося номинали-зации… Коммуникативную функцию предложение выполняет без номинализатора, вхождение которого в предложение лишает последнее коммуникативной самодостаточности и превращает в блок, предназначенный для соединения с чем-то другим. В этом смысле номинализатор сопоставим с субстантивным суффиксом, а его склоняемый компонент то – с падежной формой существительного, которая ориентируется на доминирующее слово: Я рад тому / раздоса- дован тем / жалею о том / помню о том, что собрание перенесли на среду» [Черемисина, Колосова, 1987. С. 31].
Наш опыт получения показателей связи в сложном предложении путем преобразования именных предложно-падежных синтак-сем в предикативные с предложно-союзным формантом показал, что указанный экспериментальный метод обладает необходимой диагностической силой для инвентаризации показателей связи в сложном предложении как белорусского, так и русского языков.
Особенно прозрачна такая способность у вторичных предлогов, образованных от сочетаний первичного предлога и знаменательного слова; в белорусском: у разлiку на разуменне - у разлiку на тое , што зразумеюць ; зыходзячы з магчымасцяу - зыходзячы з таго , што магчыма ; без арыентацыі на праект – без арыентацыі на тое , што ёсць праект ; без апоры на доказы - без апоры на тое , што iснуюць доказы и т. д. Соответственно в русском: в расчете на понимание - в расчете на то , что поймут ; исходя из возможностей - исходя из того , что возможно ; без ориентации на проект - без ориентации на то , что есть проект ; без опоры на доказательства - без опоры на то , что имеются доказательства.
Данный параметр позволил выявить многие союзные средства, которые не только не получили детального рассмотрения в имеющихся грамматиках белорусского языка (равно как и русского), но даже не зафиксированы ни в эмпирической базе синтаксических исследований, ни тем более в лексикографических источниках. В силу близости языков многие выявленные в белорусском языке закономерности применимы и к материалу русского языка.
Собрание максимально полного инвентаря союзных средств важно и в практическом отношении: динамика коммуникационных процессов и техническое разнообразие каналов передачи информации требуют разных способов упаковки, свертывания и развертывания информации. Поэтому выявление механизмов свертывания предикативной единицы в морфологизированную форму, с одной стороны, и развертывания именной синтаксемы в предикативную единицу - часть сложного предложения, с другой, представляется важным и для теории языка, и для речевой практики.
Формирование реестра союзных средств, образованных от предлогов, плодотворно, если придерживаться репертуара предложно-падежных синтаксем во всем их семантико-грамматическом многообразии. Это не только позволяет выявить максимально полный список показателей связи в системе сложного предложения, но и установить закономерности, разрешающие или запрещающие сочетаемость элементов в составе аналитических скреп. Нами выявлено, что даже если формантом в именной синтаксеме выступает один и тот же предлог, каждому значению синтаксемы (а следовательно, и оформляющего ее предлога) соответствует отдельное союзное средство.
Позволим себе напомнить о ряде выводов, к которым мы пришли в результате первых опытов выявления инвентаря показателей связи путем преобразования именной синтаксемы в предикативную и которые отражены в указанных выше двух наших публикациях.
-
1. Соотносительные слова и союзные средства в структуре сложного предложения представляют собой не разные классы показателей связи, а сцеплены в аналитические скрепы, определяющие конструктивное решение техники вхождения предикативной единицы в конструкцию вместо именной синтаксемы.
-
2. Предлог при трансформации падежной синтаксемы в предикативную не меняет своей функции, но он входит в более сложное союзное средство - в предложно-союзный формант предикативной синтаксемы в качестве одного из его элементов.
-
3. В предложно-союзном форманте предикативной синтаксемы каждый элемент выполняет свою функцию: предлог - предложную, соотносительное местоимение -функцию «флексии» синтаксемы (придаточной части сложноподчиненного предложения). Союз или союзное слово берет на себя функцию экспликатора, обеспечивающего грамматическую связь разноуровневых элементов синтаксемы - ее «флексии» и номинативного компонента (предикативной части), что не случайно дало основание М. И. Черемисиной рассматривать союз своего рода «суффиксом» (на наш взгляд, скорее «интерфиксом») придаточной части. А все элементы вместе являются предлож-
- но-союзным формантом одной синтаксемы в полипропозитивном предложении (в терминологии синтаксиса сложного предложения ему наиболее соответствует термин «союзное сочетание»).
-
4. Для оформления предикативной син-таксемы требуется гораздо больше показателей связи, чем только блок то 2, что , рассмотренный в [Черемисина, Колосова, 1987]; в качестве «флексии» предикативной синтаксемы ( Т -слов) выступает и местоиме-ние-субстантив среднего рода то 1 , и омонимичное местоимение тот , обладающее двумя парадигмами – субстантивной и адъективной, а функции К- слов – эксплика-торов связи выполняют не только союз что , но и другие союзы, а также союзные слова.
Выявление инвентаря союзных сочетаний возможно и методом теоретического моделирования. Таким методом нами выявлен союзный потенциал 16 наиболее употребительных (без фонетических и семантических вариантов) первичных белорусских предлогов: аб , ад , без , да , для , з , за , каля , на , над , па , перад , праз , у , пра , пры , выступающих вместе с флексиями в качестве формантов именных синтаксем со значением лица мужского пола ( аб сыну / аб сынах , ад сына / ад сыноў , да сына / да сыноў и т. д.). C учетом падежного управления предлогов были получены 44 именные синтаксемы. Указание на неопределенное лицо мужского пола на уровне предикативной синтаксемы может быть дано в виде модели: « той -субстантив + союзное слово»: тот , кто. Союзных слов, которые сочетаются с соотносительным словом той и образуют с ними союзное сочетание, в белорусском языке пять: хто , што , які , каторы , чый ( той ... хто , той ... што , той ... які , той ... каторы , той ... чый ) .
Умножение 44 на 5 дало 220 потенциальных реляционных единиц союзного типа, служащих предложно-союзными формантами предикативных синтаксем со значением лица мужского пола на уровне сложноподчиненного предложения. В принципе все 220 союзных сочетаний позволяют образовать речения. Например, речения с союзным сочетанием, полученным от предлога для: 1) Навошта ўсе яе клопаты для таго, хто так лёгка яе пакінуў? 2) На-вошта ўсе яе клопаты для таго, што так лёгка яе пакінуў? 3) Навошта ўсе яе кло- паты для таго, які так лёгка яе пакінуў? 4) Навошта ўсе яе клопаты для таго, каторы так лёгка яе пакінуў? 5) Навошта ўсе яе клопаты для таго, чыё сэрца ёй ужо не належыць? 6) Навошта ўсе яе клопаты для тых, хто так лёгка яе пакінуў? 7) На-вошта ўсе яе клопаты для тых, што так лёгка яе пакінулі? 8) Навошта ўсе яе клопа-ты для тых, якія так лёгка яе пакінулі? 9) Навошта ўсе яе клопаты для тых, каторыя так лёгка яе пакінулі? 10) Навош-та ўсе яе клопаты для тых, чые сэрцы ўжо заледзянелі?
Верификация контекстами путем их поиска в интернет-ресурсах показала лишь пятую часть этого потенциала, а точнее, 40 моделей, и то отдельные из них реализованы единичными высказываниями.
Подробное объяснение метода теоретического моделирования и трактовку причин отсутствия реализации в речевой практике большинства моделей высказываний с полученными союзными сочетаниями см. в [Ко-нюшкевич, 2015], здесь же нам важно подчеркнуть следующие моменты.
-
1. Наличие реестров предложных и изо-функциональных предлогу единиц дает возможность теоретического выявления и союзных единиц.
-
2. Обе технологические процедуры (от готового репертуара синтаксем с трансформацией морфологизированной синтак-семы в предикативную и от предлога способом теоретического моделирования предложно-союзного форманта с последующей верификацией его конкретными речевыми реализациями) доказали свою диагностическую и объяснительную силу.
-
3. Выявить полные списки союзных скреп в рамках одного языка едва ли возможно в силу континуумного характера самой языковой системы, а также динамики ее функционирования, но представить их максимальную полноту в отдельных сегментах языка под силу и одному исследователю.
Если вернуться к реляционному фонду языка в целом, то с учетом сказанного можно назвать следующие функции, которые способны выполнять реляции. Перечислим их с краткими комментариями.
-
1. Связующая функция. Любой нормальный текст обладает когезией, и союзы лишь одно из средств когезии. По связующей функции в тексте они не отличаются от ме-
- стоимений – заменителей имени, от лексических повторов, синонимов, ключевых слов и других средств. Но связующая функция имеет разновидности в зависимости от языкового статуса той единицы, компоненты которой связываются, равно как и от статуса самих связываемых компонентов. Поэтому связующая функция межфразовых релятивных единиц отличается от связующей функции средств, связывающих предикативные единицы в составе сложного предложения, и тем более от связующих функций предлогов и их аналогов, связывающих существительное с членами предложения или словосочетания. Но по собственно связующей функции («клея», по М. В. Ломоносову) все названные и другие средства, включая, например, связку, которая соединяет главные члены предложения, входят в один класс средств. Иное дело, что «клей» бывает разного цвета. Но это уже второй уровень анализа.
-
2. Регулирующая функция. При всем разнообразии отношений, выражаемых реляциями, их можно свести к нескольким. На первом уровне анализа регулирующая функция реляций обнаруживается в двух сферах: а) внешнеязыковой – в сфере общения людей (средствами регулирования являются так называемые регулятивы типа товарищ старший лейтенант , голубчик и т. п., средства называния и самоназыва-ния, формулы речевого этикета, императивные междометия и др.); б) внутриязыковой – в сфере номинаций. В последней все типы отношений можно свести к трем основным:
-
• регулируемые компоненты равноправны (хотя степень равноправия может быть разной); такую функцию выполняют сочинительные союзы, и по отношению к регулируемым компонентам союзы индифферентны и не входят ни в один их компонентов;
-
• один компонент подчиняется другому; регулируют подчинение предлоги и подчинительные союзы, причем средство связи находится в подчиненном компоненте; по этой функции присоединительные и пояснительные союзы тоже входят в данную группу;
-
• оба компонента взаимообусловлены, что характерно для связок, для двухчастных градационных союзов, для коррелятно-ре-лятных блоков и др.
-
3. Конституирующая (строевая) функция. Союзы обеспечивают построение сложного предложения и ССЦ, предлоги – словосочетания, связки – грамматической основы предложения, экспликаторы – описательного предиката ( осуществить запуск , сделать ремонт и под.).
-
4. Конструирующая функция характерна для всех содержательных единиц языка: синтаксемообразующая – для предлога и предложно-союзного сочетания, формообразующая – для частиц давай / те , пусть , пускай , да , бы , местоимения самый , градуа-тора более ; словообразующая – для первообразных предлогов и частиц, для знаменательных слов, на базе которых и в сочетании с которыми образуются новые аналитические служебные сочетания – предложные сочетания ( в сравнении с , по направлению к ), союзные сочетания ( в то время как , по той причине что ); текстообразующая – для местоимений, синонимов, союзов, модальных слов.
-
5. Анафорическая функция. Выполняется почти всеми разрядами местоимений, местоименными наречиями в сложном предложении и тексте.
-
6. Предикатная функция. Ее способны выполнять не только номинации, но и реляции – предлоги, союзы, относительно которых связываемые компоненты являются актантами (именно так рассматривает предикатную функцию служебных слов норвежский лингвист Л. Лённгрен [2007]. В этой функции интерес представляют реляционные предикаты, среди которых есть знаменательные и незнаменательные.
-
7. Грамматическая функция (обеспечение грамматических связей и категорий, экспликация тех или иных грамматических признаков, которые не способна выразить номинация собственными словоизменительными аффиксами). Сюда входят связки, экспликаторы в описательных предикатах, классификаторы, которые по этой функции сближаются с флексиями и словоизменительными аффиксами, глагол быть в форме будущего времени, даже краткие формы страдательных причастий, используемые для выражения грамматического значения страдательного залога глаголов совершенного вида ( Книга издана – Книга была издана – Книга будет издана ).
-
8. Дифференцирующая функция. Предлог вместе с флексией или без нее наделяет
-
9. В свою очередь дифференцирующие функции могут дробиться и в смысловом отношении, т. е. по той содержательной функции, которую выполняет реляция в силу своего лексического, пусть и ослабленного, значения. Названная функция обусловливает синтагматику реляции.
синтаксему тем или иным падежным значением (актантной ролью), которое затем под влиянием грамматической среды может быть модифицировано или изменено. Так, предлог у в сочетании со словоформой родительного падежа неодушевленного существительного обеспечивает синтаксеме значение локатива ( у стены , у моря , у дома ), с той же падежной формой одушевленного существительного – значение либо посессива ( У Галины новая машина ), либо локативного субъекта ( Собрались у Галины ).
Дифференцирующую функцию выполняют многие реляционные единицы – в соответствии с теми лексическими значениями, которыми каждая из них обладает. Классификация реляционных единиц по их дифференцирующей функции существенно отличается от частеречной. Так, предлог у в придании синтаксеме посессивного значения (разумеется, вместе с флексией - ы ) изо-функционален глаголу иметь , суффиксу притяжательного прилагательного -ин- или притяжательному местоимению (ср.: У Галин ы новая машина – Галина имеет машину – Галин ин а машина – Галина говорит , что это ее машина ) .
Можно еще назвать, уже без комментариев, и другие функции реляций: коррелятивную, модифицирующую, актуализирующую (например, для функтивов потому что , затем чтобы и др., для частиц), мода-лизирующую, градуирующую, вмещающую (для то 2 , указательных местоимений и наречий типа поэтому , там , это и др., союзных слов в относительных предложениях типа Он был аккуратен и вежлив , что в отделе ценили больше всего ). И едва ли этот список конечен, поскольку и список самих реляций не имеет четких границ.
На сегодня к словам-реляциям можно отнести следующие единицы.
-
1. Реляционные предикаты: а) компара-тивы типа Петя выше Саши , б) лексически ослабленные типа Комиссия состоит из трех человек , в) номинации – для выражения имперсональных отношений ( Петя – брат Саши ).
-
2. Именные и глагольные экспликаторы в описательных предикатах типа Таня отличается скромностью ; Фирма осуществляет ремонт компьютеров .
-
3. Классификаторы типа рубашка табачного цвета .
-
4. Экспликаторы в именных группах, входящие в поле предлога: находиться в плену страстей; вошел в здание университета ; быть во власти стихии .
-
5. Предлоги и их аналоги.
-
6. Союзные средства, или функтивы (наиболее полно до 90-х гг. ХХ в. этот инвентарь был представлен в предметном указателе «Русской грамматики» 1980 г., схематически его пространство подано в [Черемисина, Колосова, 1987. С. 138], а также в наших списках межъязыковой эквивалентности союзных средств в русском и белорусском языках [Конюшкевич, 1989]). На сегодня мы не располагаем более полными списками союзов даже в специализированных словарях, однако если учесть, что предлоги служат словообразующей базой для образования союзов, границы категории союза, равно как и предлога, намного шире.
-
7. Модализаторы (вводные слова), выражающие рациональное отношение говорящего к содержанию высказывания.
-
8. Эмотивы – слова, выражающие эмо-тивное отношение говорящего к ситуации.
-
9. Регулятивы – обращения, называния и самоназывания, междометия, выражающие прагматическое отношение коммуникантов друг к другу.
-
10. Модификаторы информации (частицы).
-
11. Авторизаторы (некоторые связки типа считать , трактовать и др., предлоги по , для ( Для Нины кричать - значит воспитывать ); вводные слова типа по мнению кого и др.
-
12. Связки.
-
13. Формообразующие единицы в виде слова: более , самый , давайте , пусть , бы и под.
Таким образом, в выражении отношений изофункциональными могут быть не только разные части речи, но и единицы, принадлежащие к разным подсистемам языка, – союзы, предлоги, связки, частицы, существительные в роли классификаторов, глаголы в роли экспликаторов, модальные прилагательные типа рад, обязан, компаративы и градуаторы (более, менее, скорее и т. д.), словообразовательные и словоизменительные форманты, местоимения, лексика со значением отношения типа равен, соответствует, эквивалентен, дубликат, идентичен и т. д.
Реляции – очень динамичный массив лексикона любого языка в силу динамичности самой жизни носителей языка, в силу дифференциации человеческих отношений, развитой институциализации социальной и политической жизни (см. способы выражения конфирмативного значения: под эгидой / покровительством / охраной / крышей / властью / протекторатом / патронатом / патронажем / меценатством / спонсорством… кого).
Релятивная грамматика ждет своих исследователей.
Список литературы Объекты релятивной грамматики (функциональный аспект)
- Всеволодова М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: фрагмент прикладной (педагогической) модели языка. М., 2000.
- Всеволодова М. В. К основаниям функциональной грамматики русского предлога // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2003. № 2. С. 17-59.
- Всеволодова М. В. Грамматика славянского предлога. Первые результаты межнационального проекта «Славянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис» // Польский язык среди других славянских языков: IV Супруновские чтения: конф. памяти проф. А. Е. Супруна, 7-8 октября 2004 г. Бел. гос. ун-т. Минск: РИВШ, 2004. С. 30-39.
- Всеволодова М. В., Кукушкина О. В., Поликарпов А. А. Русские предлоги и средства предложного типа. Материалы к функционально-грамматическому описанию реального употребления / Под общ. ред. М. В. Всеволодовой. М., 2014. Кн. 1. Введение в объективную грамматику и лексикографию русских предложных единиц.
- Гальченко Е. В. Употребление предлогов с фразеологизированным значением в языке современной прессы: Дис. … канд. филол. наук. Белгород, 2004.
- Загнiтко А. П. Словник украiнських прийменникiв. Сучасна українська мова. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007.
- Канюшкевiч М. I. Беларускiя прыназоўнiкi i iх аналагi. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўнiка. У 3 ч. Гродна, 2008-2010. Ч. 1. Дыяпазон А - Л. Гродна, 2008. Ч. 2. Дыяпазон М - П. Гродна, 2010; Ч. 3. Дыяпазон Р - Я. Гродна, 2010.
- Конюшкевич М. И. Синтаксис близкородственных языков: тождество, сходства, различия. Минск, 1989.
- Конюшкевич М. И. Преобразование предложно-падежной синтаксемы в предикативную единицу: корреляция предлога и показателя связи сложного предложения // Лiнгвiстичнi студiї: Зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А. П. Загнiтко. Донецьк: ДонНУ, 2013. Вип. 26. С. 93-99.
- Конюшкевич М. И. Потенциал предлога для образования союзных средств // Jужно-словенски филолог / Гл. уредник Предраг Пипер. 2014. Кн. IXX. Београд: Српска академија наука и уметности: Институт за српски језик САНУ, 2014. C. 17-33.
- Конюшкевич М. И. Теоретическое моделирование для выявления инвентаря предложно-союзных формантов предикативных синтаксем в полипропозициональной структуре // Граматичнi студiï: Зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнiтко. Вiнницця: ТОВ «Нiлан-ЛТД», 2015. С. 38-45.
- Лейчик В. М. Противоположные тенденции как импульс развития языка в современную эпоху // Вестн. МАПРЯЛ. 2007. № 52. С. 23-29.
- Лённгрен Л. О первом актанте семантического предлога // Русский язык: исторические судьбы и современность: Тр. и мате-риалы III Междунар. конгресса исследователей рус. яз. / Под ред. М. Л. Ремневой и др.; Москва, 20-23 марта 2007 г. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 2007. С. 281.
- Плешкова Л. Предлоги с количественным значением в русском и белорусском языках // Лiнгвiстичнi студiї: Зб. наук. праць. Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. Загнiтко. Донецьк: ДонНУ, 2008. Вип. 16. С. 83-93.
- Сентябова А. В. Предложно-падежные синтаксемы с нумеративно-именным лексическим компонентом в русском и белорусском языках: сходства и различия // Лiнгвiстичнi студiї: Зб. наук. праць. Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. Загнiтко. Донецьк: ДонНУ, 2007. Вип. 15. С. 191-195.
- Судзуки Р. Русские атрибутивные конструкции со значением «параметрическая характеристика предмета» и функционирование в них компонентов предложного типа (в зеркале японского языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2008.
- Ушакова Л. И., Гальченко Е. В. Отыменные предлоги с фразеологизированным значением в аспекте их моно- или полисемии // Русский язык в школе. 2000. № 4. С. 71-75.
- Черемисина М. И. Об изъяснительной конструкции с факультативным управляемым местоимением то // Функциональный анализ синтаксических структур: Сб. науч. тр. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. С. 3-21.
- Черемисина М. И., Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск: Наука, 1987.
- Шереметьева Е. С. Отыменные релятивы современного русского языка. Семантико-синтаксические этюды: Моногр. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008.
- Шиганова Г. А. Релятивные фразеологизмы русского языка. Челябинск: Изд-во Челяб. пед. ун-та, 2003.
- Шмелева Т. В. Техника сложного предложения // Лингвистические идеи В. А. Белошапковой и их воплощение в современной русистике: Коллект. моногр. / Сост., отв. ред. Л. М. Байдуж. Тюмень: Мандр иК, 2010. С. 116-133.
- Шуба П. П. Прыназоўнiк у беларускай мове. Мiнск: Унiверсiтэцкае, 1971.
- Шуба П. П. Тлумачальны слоўнiк беларускiх прыназоўнiкаў. Мiнск: Народная асвета, 1993.
- Мilewska B. Słownik polskich przyimków wtórnych. Gdańsk, 2003.