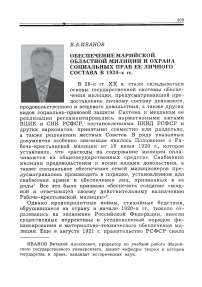Обеспечение марийской областной милиции и охрана социальных прав ее личного состава в 1920-х гг.
Автор: Иванов Виталий Алексеевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 3 (52), 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется динамика материально-технического обеспечения органов милиции Марджинского автономного округа и защиты социальных прав милиционеров в 1920-е гг.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222915
IDR: 147222915
Текст научной статьи Обеспечение марийской областной милиции и охрана социальных прав ее личного состава в 1920-х гг.
В 20-е гг. XX в. стали складываться основы государственной системы обеспечения милиции, предусматривавшей предоставление личному составу денежного, продовольственного и вещевого довольствия, а также других видов социально-правовой защиты. Система и механизм ее реализации регламентировались нормативными актами ВЦИК и СНК РСФСР, постановлениями НКВД РСФСР и других наркоматов, принятыми совместно или раздельно, а также решениями местных Советов. В ряду указанных документов особенно значимым явилось Положение о Рабоче-крестьянской милиции от 10 июня 1920 г., которое установило, что «расходы на содержание милиции оплачиваются из общегосударственных средств». Снабжение милиции продовольствием и всеми видами довольствия, а также специальное обеспечение семей милиционеров предусматривалось производить в порядке, установленном для снабжения армии и обеспечения лиц, призванных в ее ряды1 Все это было призвано обеспечить создание «мощной и отвечающей своему действительному назначению Рабоче-крестьянской милиции»2.
Однако кровопролитные войны, стихийные бедствия, обрушившиеся на страну в начале 1920-х гг., тяжело отразившись на экономике Российской Федерации, внесли существенные коррективы в установленный порядок финансирования и материально-технического обеспечения милиции. Еще в августе 1921 г. правительство РСФСР сняло
ИВАНОВ Виталий Алексеевич, проректор по учебной работе Марийского государственного университета, доцент кафедры теории и истории государства и права, кандидат исторических наук.
милицию с довольствия военного ведомства и перевело ее на местный бюджет, значительно сократив при этом количество продовольственных пайков. В результате снабжение органов милиции ослабло3
Одной из наиболее значительных и болезненных проблем являлось снабжение работников милиции вещевым довольствием. Его организация была возложена на окружные и губернские органы снабжения Красной Армии. Однако кризисное состояние экономики Российской Федерации, первоочередное внимание обеспечению армейских частей не позволяли им справиться с этой задачей должным образом. «Главная нужда милиции заключается в нехватке обмундирования..., — писал в феврале 1921 г. начальник Краснококшайской кантмилиции, — милиционеры ходят босыми»4 Ни один из сотрудников УРа не имел шинель, гимнастерку, сапоги5. Вовсе не было обмундирования во вновь образованной Сернурской кантмилиции6
Неудовлетворительно обстояло дело и с вооружением. В августе 1921 г. милиция Марийской автономной области (МАО) имела в распоряжении 197 винтовок, 53 револьвера, 12 шашек, 2 700 патронов, 2 повозки, 14 седел, 2 обозные и 59 верховых лошадей7 Обеспеченность винтовками, например, в Козьмодемьянской кантмилиции составила 67 %, револьверами — 19 %, лошадьми — 17 %. Причем, на вооружении даже в этом относительно благополучном кантоне не было предусмотренных штатным расписанием пулеметов и шашек8 24 октября 1921 г. начальник областной милиции предписал обеспечить обязательную сдачу оружия милиционерами при увольнении, прием его производить только комиссией. Комиссия, в свою очередь, была призвана осуществлять сортировку оружия, выявляя неисправное, с тем, чтобы оставшимся работникам передавать лучшее оружие9
Характерной особенностью государственного обеспечения работников милиции с января 1923 г. по декабрь 1930 г. явилось финансирование ее за счет местных бюджетов. Это стало следствием государственной политики упрощения и удешевления аппарата управления, утвержденной Декретом СНК РСФСР от 6 сентября 1922 г. «О составлении общего государственного бюджета на 1922/23 год»10. Как результат — состояние государственного обеспечения милиции еще более ухудшилось.
Особенно тяжелая ситуация сложилось весной—летом 1923 г. «Состояние милиции не удовлетворительно»11, «материальная обеспеченность скверная», состояние бюджета — «крайне бедное»12, — сообщалось в марте из Козьмодемьянского кантисполкома. Многие из работников встали на путь попрошайничества. Их крайняя нищета «свела на нет» результативность кампании по борьбе со взяточничеством13 Комиссия ГУРКМ тогда же оценила уровень материально-технического обеспечения областной милиции как неудовлетворительный14
С учетом этого бюро обкома РКП(б) 13 февраля 1923 г. предложил облисполкому принять меры для улучшения материального положения работников15 Однако местные власти, оказавшись не в состоянии должным образом финансировать милицию, стали существенно урезать ее штаты по сравнению с нормами, выработанными НКВД. В приказе начальника ЦАУ НКВД в 1923 г. указывалось, что штаты милиции МАО были урезаны на 40 %.
В МАО на административно-судебные органы из местного бюджета было выделено: в 1923/24 гг. — 27,55 тыс. руб., в 1924/25 гг. — 50,9 тыс. руб. (рост составил 85 %); в 1925/26 гг. — 95,5 тыс. руб. (87,3 %); в 1926/27 гг. — 18,4 тыс. руб. (24 %); в 1927/28 гг. — 91,5 тыс. руб. (сокращение составило 22,7 %)16-
В 1930 г. на охрану общественного порядка из бюджета МАО было выделено 232,3 тыс. руб., в 1931 г. предусматривалось выделить 221,6 тыс. руб. или на 4,5 % меньше расходов предыдущего года17 Несмотря на определенный рост объемов финансирования (за исключением 1927/28 гг.), органы милиции испытывали дефицит финансовых средств. Выделяемые на их содержание средства не обеспечивали в полном объеме покрытие расходов на приобретение необходимой техники, транспортных средств, ремонт, осуществление оперативно-розыскной деятельности и достойную оплату труда сотрудников милиции. К примеру, в 1923/1924 бюджетном году на хозяйственные расходы областной милиции испрашивалась сумма в объеме 6,5 тыс. руб. (на закупку дактилоскопических материалов и др.), центром было утверждено 3,8 тыс. руб., было получено около 2 тыс. руб.18
Велик соблазн искать причины подобного положения в том, что новая власть не рассматривала милицию в качестве приоритетной государственной структуры, а опиралась на партийный аппарат, органы госбезопасности и армию. Отношение власть предержащих к милиции, по мнению некоторых ученых, было как к вспомогательному государственному органу, а к ее работникам — как к исполнительному персоналу Советов всех уровней. Отсюда и ограниченные масштабы финансирования милиции19 Однако, на наш взгляд, передача содержания милиции на местные бюджеты еще не является свидетельством равнодушия к материальному положению служащих милиции. По характеру обязанностей, возложенных на милицию, она была одновременно органом как местной, так и центральной власти, и последняя была заинтересована в том, чтобы ее задания выполнялись милицией, должным образом снаряженной, вознаграждаемой и в меру многочисленной20 Другое дело, что возможности государства оказались ограниченными.
Как и прежде, серьезной оставалась проблема оплаты труда работников милиции. Согласно Положению о Народном комиссариате внутренних дел (1922 г.), их денежное содержание определялось на основе тарифной сетки. Из-за того, что на местах должности работников милиции относились к нижним разрядам тарифной сетки, материальное обеспечение милиционеров было мизерным, едва достаточным для полуголодного существования21 Летом 1924 г. средняя зарплата служащих советских учреждений по области составляла 21,45 руб. в месяц. В системе просвещения она равнялась 16,85 руб., связи — 14,8, госбанка — 43,62, госстраха — 29,33, суда — 24,92, земуправ-ления — 17,31, милиции — 13,7 руб.22 Милиция, несмотря на опасный характер службы, по уровню зарплаты занимала одно из последних мест.
Положение усугублялось тем, что работники милиции нередко по два—три месяца не получали денежного содержания. Из-за этого летом 1923 г. половина личного состава дезертировала. Оказавшись в безвыходном положе-
^^^^^^^^^^^^■^^^^■^■^^^■^■n^^^^^^^*^—^^^^^^^***i^"^^^^*** нии, руководство областной милиции телеграфировало начальнику Главмилиции о приостановлении всякой текущей работы. Денежное довольствие на заготовку фуража в апреле—июне не отпускалось, указывалось в документе, поэтому собственные лошади милиционеров уволены, казенные — пасутся на лугах, чтобы спастись от падежа23
Однако радикально изменить ситуацию с финансированием милиции, истерзанной голодом и стихийными бедствиями, только что образованной области самой было не под силу. Местная власть была озабочена тем, как обеспечить население хлебом. В письме секретаря обкома партии в ЦК РКП(б) в августе 1923 г. сообщалось: «Нужна срочная помощь Центра. Иного выхода нет»24. Число голодающих в области стремительно нарастало: в начале июня их насчитывалось 111,2 тыс. чел., июле — 118,4 тыс.25 По данным Сернурского кантздрава, на почве голода в начале 1920-х гг. умерло более 7,2 тыс. чел.26
Безусловно, материально-бытовые проблемы милицейских работников находились в поле зрения партийных и советских органов. 9 октября 1923 г. президиум Сернурского кантисполкома, заслушав доклад И.С.Максимова по итогам работы инспекторской комиссии областного управления милиции, принял решение о выделении помещений для размещения канцелярии начальников районных милиций и волостных милиционеров. Были также даны указания об обеспечении милиционеров лошадьми для их разъезда по служебным делам27 В 1924—1925 гг. вопрос об отпуске для милиционеров нового обмундирования, вооружения, а также фуража для лошадей поднимали Юринский (октябрь 1924 г.)28, Новоторъяльский (декабрь 1924 г., апрель 1925 г.)29 канткомы РКП(б), Сернурский (апрель 1924 г.)30 и другие кантисполкомы. Особое внимание к вопросам обеспечения милиции обмундированием было вызвано прекращением бесплатной его выдачи из государственных фондов и возложение этой задачи на исполкомы местных Советов.
Милиция была слабо обеспечена служебными помещениями. Многие управления размещались в ветхих строениях. В 1923—1924 гг. ставятся вопросы о проведении ремонтных работ в помещениях управлений Козьмодемьянской31, Сернурской32, Новоторъяльской милиции33 Принимаются решения о строительстве арестных домов при волиспол-комах. В начале 1929 г. был проведен ремонт здания Йошкар-Олинской гормилиции34 Тогда же бюро ячейки ВКП(б) областного суда, административного отдела и прокуратуры приняло решение добиваться закрепления за областным адмотделом находящихся рядом двух зданий, чтобы сосредоточить там силы милиции, УРа и гормилиции35 Следовательно, несмотря на трудности, органы милиции добивались предоставления своим сотрудникам служебных помещений, средств передвижения, обеспечивали капитальный ремонт зданий.
Отсутствие централизованного финансирования, дефицит средств на местах создавали для сотрудников милиции немало лишений и невзгод, отрицательно сказались на боеспособности РКМ, эффективности борьбы с преступностью. В то же время в эти годы были введены некоторые новшества в финансовом и материальном обеспечении милиции. Одно из них — система премирования. Опираясь на растущие возможности возрожденной экономики, Советское государство во второй половине 1920-х гг. активизировало усилия, направленные на укрепление правовой и социальной защиты работников милиции. В принятом в 1925 г. Положении о службе Рабоче-крестьянской милиции была предусмотрена выплата работникам милиции и уголовного розыска краевыми, областными и губернскими исполкомами дополнительного вознаграждения к основному окладу за проработанные дни отдыха и ночное время по соглашению с органами профессионального союза36
Вторая сессия облисполкома в октябре 1925 г. приняла решение об организации выдачи 20 % отчислений и штрафов, получаемых за нарушение обязательных поставок37 В сентябре 1927 г. было установлено премирование сотрудников милиции за борьбу с нарушителями правил рыболовства38 Сложившаяся практика материального стимулирования труда сотрудников милиции наиболее полно отвечала идеям и принципам НЭПа.
Введение премирования стало одной из дополнительных мер обеспечения социальной защищенности личного состава милиции в условиях разрухи, голода, инфляционных процессов. Оно сыграло положительную роль в повышении уровня его материального обеспечения. В 1925 г. премиальные отчисления сотрудникам милиции из суммы, взысканной только по ст. 140 УК РСФСР, составляли 36 % общей суммы зарплаты административного аппарата39 Но все же существенного значения премирование не могло иметь.
С середины 1920-х гг. принимается ряд важных нормативных документов, направленных на улучшение материального положения работников милиции. Положение о службе Рабоче-крестьянской милиции закрепило оплату сверхурочных и предоставление отгулов за работу в выходные дни и ночное время (п. 5 прим. 1 и 2). Однако эта норма часто не выполнялась из-за отсутствия финансовых средств и некомплекта личного состава. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 3 октября 1927 г. «Об улучшении положения работников Рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска» предложило местным исполкомам повысить в 1927/28 гг. заработную плату работникам милиции и установило минимальный предел для милиционеров, работающих в сельской местности40 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 11 ноября 1927 г. рекомендовало исполкомам автономных республик, краевым, областным и губернским исполкомам ввести государственное страхование работников строевого состава милиции и активного состава уголовного розыска на случай смерти или инвалидности при исполнении или вследствие исполнения ими служебных обязанностей41. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР (май 1928 г.) установило периодические прибавки к заработной плате за выслугу лет для работников строевого и активного составов милиции42 Надбавки исчислялись следующим образом: за 3 года непрерывной службы в милиции — 10 %, за 6 лет — 20, за 9 лет — 30 % от основного должностного оклада.
В итоге зарплата работников административных органов за 1925—1930 гг. выросла почти в 2,6 раза. Выше этого уровня поднялась зарплата инспекторов и агентов УГРО, младших милиционеров. В апреле 1929 г. IV съезд работников юстиции и адмотдела облисполкома отметил некоторое улучшение в материальном положении работников милиции43. Увеличение реальных доходов работников ми- лиции во второй половине 1920-х гг. и создание более благоприятных условий труда отражали коренное улучшение положения всего советского народа. Это явилось действенным средством их мобилизации на охрану правопорядка в стране, борьбу с преступностью, защиту правящего режима.
Однако достигнутый уровень денежного содержания не гарантировал работникам милиции социальную защищенность. В 1926 г. зарплата участковых инспекторов милиции в области составила 30 руб. в месяц против 21 руб. — в 1925 г.44 Между тем, по оценкам ВЦСПС и Наркомата труда, рабочие, получавшие в 1926 г. зарплату в размере 30 руб. в месяц, относились к наименее низкооплачиваемой категории, доля которых составила по стране 15,8 %45. Но и во второй половине 1920-х гг. доля низкооплачиваемых среди милицейских работников оставалась значительной. Так, в 1928 г. среднегодовая зарплата милиционера МАО с учетом квартирных составляла 600 руб.46, против 703 руб. — в народном хозяйстве страны47 Причем, выдача денежного довольствия нередко задерживалась, нарастали региональные дифференциации в материальном благополучии милицейских кадров и'состоянии социальной сферы.
Увеличение заработной платы едва поспевало за постоянным ростом цен на потребительские товары, реализация которых в значительной мере осуществлялась по спекулятивным ценам через рынки. Поэтому сетования на низкий уровень зарплаты работников милиции на местах не прекращались. На это указывали решения президиума Крас-нококшайского (9 июня, 24 августа 1926 г.)48, Моркинского и других кантисполкомов (октябрь 1928 г.)49, бюро Юрин-ского райкома партии (март 1929 г.)50.
Для сравнения отметим, что стражи порядка при царизме служили за более значительное материальное вознаграждение. Месячное жалованье конного урядника в начале 1914 г. в Козьмодемьянском уезде составляло 30 руб. Пуд свинины тогда можно было приобрести в среднем за 6,8 руб., пуд ржаной муки — 0,95 руб. При этом вспомним, что урядник представлял нижний чин уездной полиции (рядовой милиционер)51. Несложные подсчеты показывают, что на месячное жалованье конный урядник мог купить 31,6 пудов ржаной муки или 4,4 пуда свиного мяса, исправник — соответственно 158 и 22.
Анализ показывает, что в обеспечении денежным довольствием личного состава областной милиции в эти годы имелся ряд особенностей. Во-первых, происходит нивелировка в уровне оплаты труда командного и рядового составов. Если в 1914 г. жалованье исправника уездного полицейского управления и пешего урядника выражалось как 6:1, то в 1925 г. соотношение окладов начальника кантонной милиции и пешего милиционера составляло 3,23:1, в 1929 г. — 2,3:1. Во-вторых, в отличие от других регионов, в кантмилициях области не наблюдалось разницы окладов среди лиц, занимавших одинаковые должности.
Принятые к середине 20-х гг. XX в. меры позволили несколько улучшить положение милиции. В феврале 1924 г. вся милиция Сернурского кантона получила форменные шинели52 Если к 1 января 1925 г. областная милиция была удовлетворена вещевым довольствием и оружием лишь на 30 %53, то в июле было обмундировано 67 % личного состава, обеспеченность винтовками составила 117 %, револьверами — 81 %. Однако техническое состояние вооружения было неудовлетворительным: оружие было разносистемным и в значительной степени устаревшим; 50 % оружия было негодным54. По-прежнему сказывались необеспеченность предусмотренных мероприятий централизованным финансированием и неспособность местных властей содержать милицию на приемлемом уровне за счет собственных средств. В результате материально-техническое обеспечение милиции, как и правовая и социальная защищенность ее работников, оставались на низком уровне, не соответствовали сложившемуся уровню криминализации общества. Нормы обеспечения милиции оружием, боеприпасами, форменным обмундированием не выдерживались.
В 1928 г. по итогам обследования кантисполкомов были поставлены те же задачи, что и на второй сессии облисполкома, — обеспечить кантмилицию удобным оружием, боеприпасами и обмундированием55 К концу 1929 г. личный состав областной милиции все равно был обмундирован лишь на 50 %56.
Совершенствовалась система отпусков. Положение о службе Рабоче-крестьянской милиции (1925 г.) установило для работников милиции ежегодный оплачиваемый отпуск. Кроме того, предусматривалось предоставление внеочередных отпусков продолжительностью не более месяца в связи со смертью или тяжелой болезнью ближайших родственников или с постигшим семью стихийным бедствием. Вскоре решением НКТ РСФСР были вновь введены дополнительные отпуска для некоторых категорий работников уголовного розыска57
В повышении уровня благосостояния работников милиции важное место отводилось государственному страхованию. Согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 11 ноября 1927 г., было введено государственное страхование работников милиции на случай гибели или получения инвалидности при исполнении служебных обязанностей. Однако оно носило избирательный характер и не было распространено на начальствующий состав и административно-хозяйственный персонал58.
Недостаточное финансовое обеспечение деятельности органов милиции, с одной стороны, в целом явилось причиной того, что квалифицированные специалисты предпочитали трудоустраиваться в иные структуры, где размер заработной платы был значительно выше должностных окладов милиционеров. Это обусловило низкий профессионализм милицейских кадров и, как следствие, плохое качество их работы. С другой стороны, неустроенный быт сотрудников милиции, вызванный недостаточным финансированием, а также особые права и полномочия, которые им предоставлялись для выполнения служебных обязанностей, экстремальные, сопряженные с риском для жизни ситуации, нередко вели к нежелательным изменениям в мировоззрении личности, системе ее нравственных ценностей, психическом и физическом состоянии. Все это становилось причиной и условием совершения преступлений милицейскими кадрами. Одни, надорвавшись от чрезмерной нагрузки, рано оставляли работу59, другие ударялись в пьянство. Имели место случаи самоубийств60
Таким образом, государственное обеспечение милиции и социально-правовая защита ее работников носили в рассматриваемые годы бессистемный характер. Многие проблемы, накапливавшиеся в этой сфере, решались со значительным отставанием. Вместе с тем в 20-е гг. произошел постепенный, хотя и весьма неравномерный, рост жизненного уровня кадров милиции: увеличились заработная плата, общественные фонды для бесплатного удовлетворения или предоставления льгот в обеспечении социально-культурных нужд (получение образования, медицинского обслуживания, содержания детей в дошкольных учреждениях, организация отдыха и т.д.). С другой стороны, в ситуации дефицита и острой проблемы неудовлетворенного спроса сотрудники милиции, обладая значительным объемом власти, имели доступ к различным материальным благам.
Оценивая социально-правовое положение личного состава марийской милиции в 20-е гг. XX в., следует отметить, что на всех этапах этого сложного периода оно во всем соответствовало политическим реалиям, экономическим и социальным условиям жизни страны. Милиция служила народу и делила с ним все успехи, заботы и невзгоды, выпавшие на долю того поколения.
Список литературы Обеспечение марийской областной милиции и охрана социальных прав ее личного состава в 1920-х гг.
- О Рабоче-крестьянской милиции (Положение): Декрет ВЦИК и СНК от 10.06.1920 // СУиР РКП. 1920. № 79. Ст. 371. Параграфы 9, 8.
- Государственный архив Республики Марий Эл (далее ГА РМЭ), ф. Р-35, оп. 1, д. 87, л. 57.
- Тимофеев В.Г. На страже правопорядка: становление, развитие и деятельность органов милиции Чувашии в предвоенные годы (1917 - 1941 гг.). Чебоксары, 1996.
- ГА РМЭ, ф. Р-633, оп. 1, д. 1, д. 52, л. 18.
- ГА РМЭ, ф. Р-61, оп. 1, д. 2, л. 38.