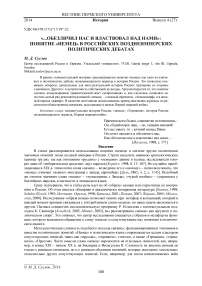«...Обезличил нас и властвовал над нами» понятие «немец» в российских позднеимперских политических дебатах
Автор: Суслов М.Д.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Зарубежные центры исследования истории России
Статья в выпуске: 4 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
В рамках «концептуальной истории» рассматривается понятие «немец» как одно из ключевых в политических дебатах позднеимперского периода в истории России. Это позволяло поднимать вопросы, центральные для интеллектуальной истории России: признание со стороны «значимого Другого» и аутентичность собственной культуры. Аргументируется то, что понятие «немец» конденсировало травматический опыт «непризнания» и, как следствие, позволяло запустить целый ряд реконцептуализаций «немца» - «ложный европеец», «псевдоморф» и в военный период «варвар». В качестве источников использовались преимущественно журналы по религиозно -общественным вопросам, выходившие в начале Первой мировой войны
Концептуальная история России, "немец", "германия", история России позднеимперского периода, первая мировая война
Короткий адрес: https://sciup.org/147203583
IDR: 147203583 | УДК: 94(470+571)"17/19":32
Текст научной статьи «...Обезличил нас и властвовал над нами» понятие «немец» в российских позднеимперских политических дебатах
Причина всем бедам, славянство истомившим, -Он, общий ворог наш, – он, хищник вековой! Его вы знаете: то – алчный немец. Вами Он хочет овладеть и обезличить вас,
Как обезличил нас и властвовал над нами… [ Васильев , 1908, с. 571] Введение
В статье рассматривается использование понятия «немец» в системе других политически значимых понятий эпохи поздней империи в России. Строго выделить нижнюю хронологическую границу трудно, так как отношения «русских» с «немцами» давние и тесные; исследователи говорят даже об «избирательном сродстве» двух народов [ Kopelev, 1998, S. 13–107]. Не случайно преобладающая в XIX в. этимология слова «немец» – возведение его к «немому» – позволяла понять, что «немец» означает «всякого иностранца с запада, европейца» [ Даль , 1865, ч. 2, с. 1145]. Подобный же оттенок значения слова «немец» – «чужестранец с Запада», «чужой вообще» – сохранился у балтийских народов, в частности, в латышском языке.
Сразу подчеркнем, что в статье речь идет не об «образе» немцев или стереотипах их восприятия в России. Об этом имеется обширная и академически изощренная литература [ Szarota , 1998; Schulze-Wessel , 1995; Herrmann, Ospovat , 1998; Буткова , 2001; Попова , 2007; Жарких , 2005; Оболенская , 2000]. Исследование «образа немца» позволяет понять круг метафор и ассоциаций, который в каждый момент времени связывался с употреблением слова «немец», но наша задача заключается в другом. Пытаясь совместить исследовательскую программу Р. Козеллека с контекстуальным подходом К. Скиннера [ Koselleck , 2002; Skinner , 2002], мы рассматриваем «немца» как аргумент в политическом споре1. Это означает, что центр исследования смещается с образов и метафор на функцию, которую выполняло обращение к слову «немец» и сопутствующим ему понятиям в политическом диалоге .
Методологическая сложность подобного подхода связана с функционированием этнонимов в качестве политических понятий. «Немец» в политическом языке сопровождается целым кластером сопутствующих понятий, таких как «пруссак», «германец», «тевтон», а также «Германия», «германизм», «Пруссия». Часто смыслы слова «немец» переносятся на отдельных личностей, как, например, в конце XIX – начале XX в. на Бисмарка и Вильгельма II. Сложность их анализа связана не только с разными оттенками, но и с разными объемами значений, которые постоянно «скользили» относительно других сопутствующих понятий. Если, например, для эпохи наполеоновских войн
«пруссак» был частью немецкой политической нации [ Воейков , 1813, с. 18], т.е. объем этого понятия полностью включался в объем понятия «немец», то в позднеимперский период «пруссак» нередко противопоставлялся «немцу». Кроме того, понятие «немец» использовалось для обозначения разных категорий людей (см. об истории немцев в России [ Long , 1988; Немцы в России, 1999; Немцы России, 2006]): немцев-колонистов, немцев на государственной службе империи, Балтийских немцев и, наконец, немцев как населения Германии, поэтому смысл слова мог меняться в зависимости от того, кого автор имел в виду. Некоторое единообразие, как и единство образа «немца», сложилось только к концу XIX в. в среде правых, для которых разные категории «немцев» имели общий набор (негативных) качеств.
В царской России существовали, разумеется, «реальные» немцы, с которыми обыватели и интеллектуалы общались повседневно. Дело, однако, в том, что само восприятие конкретного «Ивана Ивановича» как немца обусловливалось многослойными дискурсивными конструктами, т.е. было идеологично на многих уровнях интепретации. Во-первых, слово «немец» было этнонимом, а любой этноним является категорией политического мышления, в том смысле что говорящий соотносит себя с неким «внешним» сообществом и тем самым воссоздает свое, «внутреннее», сообщество. Как отмечал М. Н. Катков, «слово Немец, особенно в настоящее время, не есть только этнографический термин, – это термин политический...» [ Катков , 1897, с. 347; ср.: Миллер и др., 2012, с. 42]. Во-вторых, слово «немец» было литературной метафорой, аккумулирующей эмоции, визуальные образы, стереотипы. Наконец, к концу имперского периода слово «немец» стало приобретать характер политического понятия, т.е. в терминах М. Фридена из категории «политического мышления» «немец» превратился в один из концептов «мышления о политике» [ Freeden , 2013, р. 3–5].
Однако как политический концепт «немец» имел специфический статус, так как в отличие от других политических концептов («свобода», «равенство», «справедливость») «немец» заключал в себе отсылку к обозначаемому, т.е. к «реально» существующей группе (вернее, к группам) людей. Это означает, что идеологические трансформации концепта непосредственно отражались на положении (в том числе юридическом) этих групп в диапазоне от привилегированности до погрома. Но это придавало и существенную «остойчивость» концепту, поскольку, встречаясь с «реальными» «немцами» в повседневности, люди меняли свое отношение к ним медленно и неохотно, увеличивая тем самым разрыв между теоретическими конструкциями вокруг «немца» и риторическими практиками на уровне повседневного общения. Кроме того, взаимосвязь слова «немец» как концепта и слова «немец» как этнонима и литературной метафоры позволяла устанавливать канал перетекания эмоциональной энергии и визуальных образов из одного в другой; иными словами, «немец» как концепт метафоричен, а «немец» как метафора концептуален. Еще одна проблема заключается в том, что этноним «немец» был распространен на социальные группы, которые редко осознавали свое единство как «немцев» и только к концу XIXв. стали восприниматься имперским законодателем как нечто единое. Тем не менее в политических дебатах никогда не терялась из виду сущностная связь немца-колониста, немца-аптекаря, немца-чиновника, немца–прибалтийского землевладельца, и немца–подданного Германской или Австро-Венгерской империи.
Связь «немца»-понятия с «немцем»-этнонимом подчеркивает «эндемичность» понятия, его возникновение из глубин народного сознания, а не навязанность сверху образованными элитами. Конечно, имперская бюрократия и интеллигенция выковала из этого народного понятия нечто совсем особенное, но «материал» все-таки остался прежним.
Кроме того, слово «немец» как понятие достаточно абстрактно, в том смысле что применимо к широкому, часто взаимопротиворечащему кругу идей (например, «немец – варвар» и «ученый немец»). Поэтому неустранимый смысловой компонент слова «немец» предполагал политизацию этнонима «немец» с помощью понятий «другой» и «господин». Происхождение этнонима «немец» в славянских языках связано со словом нъмьць, т.е. «чужестранец», и образовано от слова нъмъ – немой, заикающийся [ Ковалев , 1991, с. 61; Мыльников , 1999, с. 286–287; Фасмер , 1996, с. 62]. Особенно к концу XIX в. понятие «немец» вбирает в себя весь спектр идей, связанных с понятием «господство»: «немецкое засилье», «освобождение от власти немца», «немец – поработитель славян» и т.п., а также ассоциируется с оторванными от народа правящими элитами: «немцы-бюрократы» и «немцы-интеллигенты».
Наконец, надо учитывать, что понятие «немец» возникло в контексте интеллектуальной ис- тории, в которой базовые понятия и идеологии не совпадают с «традиционными» западноевропейскими идеологическими таксономиями. Если в странах Западной Европы понятие «немец» почти не выходило за пределы этнонима в области политического мышления, то в России слово «немец» стало одним из центральных, базовых понятий, в котором, по словам Козеллека, «спрятана во всем своем многообразии как "политическая и социальная история", так и "история опыта"» (цит. по [Бедекер, 2010, 7]). В этом понятии выразилась специфика российской интеллектуальной истории, так как оно позволило концептуализировать периферийный статус России, конденсировать вокруг себя дискурсы о модернизации и аутентичности, о возможности России принадлежать к «семье цивилизованных народов» и в то же время сохранять свою культурную оригинальность. Втягивая в свою концептуальную воронку дебаты славянофилов и западников, к концу XIXв. понятие «немец» дает возможность поставить центральный для российской интеллектуальной истории эпохи империи вопрос о культурной аутентичности России.
Исходя их этого можно определить цель исследование как выявление специфики, стадий и процессов политизации «немца», т.е. превращение его из моральной проблемы в политическую. Остается, однако, невыясненным вопрос об идейном двигателе этой трансформации, а между тем именно решение его является важным для понимания взаимодействия идеологии и коллективной идентичности. Проще говоря, именно кристаллизация представления о том, что такое Россия и кто такой «русский», влияла на политизацию понятия «немец». Но верно и обратное: «немец» как концепт или даже политическая идеология «производил» русских, способствовал формированию их идентичности. Как отмечает С. В. Оболенская, «не будет преувеличением сказать, что в XIX веке в нашей стране все размышления... о прошлом и будущем отечества, о характере и путях его развития были неизменно связаны с осмыслением роли немцев в России» [ Оболенская , 2000, с. 11].
«Вездесущность» «немца» в политических дебатах заставляет избирательно подходить к источникам. Настоящая работа основана на мало популярном до сих пор корпусе материалов, взятых из церковных журналов как столичных, так и провинциальных богословских академий и религиозных организаций. Речь идет о таких журналах, как «Церковный вестник», «Церковность», «Вера и разум», «Труды императорской Киевской Духовной Академии», «Православное обозрение», «Православный собеседник», «Церковно-общественный вестник», «Христианин» и другие за 1914–1915 гг., выбранные с точки зрения вероятности нахождения в них «немецкой темы».
«Немец» в грамматике (не)признания
Теоретическим утверждением в этом исследовании является следующее: политизация обозначения какой-нибудь социальной группы (в том числе этнонима) качественно отличается от политизации абстрактного понятия, так как предполагает трансформацию некоей моральной закономерности, переформатирование отношения «я» и «ты», что в крайнем случае может вести к обоснованию геноцида этой группы. Таким образом, при анализе такого класса понятий необходимо увидеть моральный «стержень» понятия и вскрыть логику его трансформации. В этой статье механизмом взаимодействия «немца» как политического концепта и идентичности считается «признание» / «непризнание», т.е. ситуация «раба и господина» из классического фрагмента «Феноменологии» Гегеля. С этой точки зрения в «немце» конденсируется травматический опыт непризнания со стороны значимого, «большого Другого» – Запада в целом. Всю интеллектуальную историю императорской России, ее философский век от Чаадаева до Бердяева можно интерпретировать как осмысление и артикуляцию непризнания, а понятие «немец» в таком случае действительно является базовым концептом «идеологии непризнания», в то время как реальный этноним «немец» приобретает качества сверхпризнанности (т.е. сверхпредставленности, сверхвидимости) в политических дебатах и политических решениях – к несчастью, для самих немцев. Таким образом, можно говорить о формировании к концу XIX в. «немецкого комплекса» в российской интеллектуальной истории [ Peskov , 1998, S. 847].
В публичной лекции 1891 г. А. Будилович так объяснял причины русско-немецкой вражды: «Они заключаются прежде всего в крайнем нежелании романо-германцев признать историческую равноправность с ними народов греко-славянских, к которым и романцы... а еще более германцы, и во главе их немцы, относятся крайне неприязненно, нередко и презрительно, как к низшей расе, призванной... служить им» [Будилович, 1896, с. 162–181], что, естественно, вызывает негодование и ненависть славян. Ссылаясь на работу А. Гильфердинга 1869 г., Будилович «признает» «немца» в качестве одной из главных культурных сил современности, но и требует такого же признания для славян, проводя параллель с системой двойных звезд, «из коих каждая горит собственным светом, но вместе с тем вращается вокруг другой и вокруг какого-то... общего им центра». Такими «двойными звездами» в истории были, по его мнению, индусы и иранцы, а также греки и италики, а в наши дни – германцы и славяне [Там же]. Эта аналогия важна для подчеркивания взаимозависимости, взаимодополняемости и равности русских и немцев.
Логическое развертывание «грамматики признания» имеет следующие стадии. На первой стадии «немец» осознается как «достойный признания». На второй стадии формируется представление о том, что, хотя «мы» признаем «немца», «немец» не признает «нас». На третьей стадии ressentiment и унижение от воображаемого непризнания порождает интеллектуальную работу по переосмыслению «немца» как ложного объекта признания, который на самом деле «нашего» признания не заслуживает. Структурная порочность этой логики заключается в том, что, отрицая Дру-гого/«немца» как достойного признания (исходя, например, из концепции «двух Европ»), «мы» запускаем механизм дезинтеграции собственной идентичности, так как сама возможность самоидентификации возникает в результате признания со стороны того, кого мы тоже считаем достойным признания [ Honneth , 1995].
Диалектика «раба и господина» в интеллектуальной истории периферийной империи такова, что «воображаемое отношение к реальным условиям существования» (Альтюссер) делает немца «воображаемым господином» и тем самым заводит идеологические процессы в тупик, так как невозможно получить реальное признание от воображаемого господина, а между тем все содержание политического понятия «немец» сводится к осмыслению непризнания и выработке стратегий его получения. В результате, не получая реального признания от воображаемого «господина», воображаемый «раб» испытывал большие затруднения с формированием своей политической субъектности [ Honneth , 2007, р. 323–347]. Центральный парадокс концептуализации «немца» имеет четко выраженный лакановский характер: «немец» полностью зависим от «русского» в том смысле, что его идентичность дискурсивно сконструирована, но эта конструкция такова, что она превращается в господствующее означаемое самого «русского». Характерно и символично, что драматический выход из этого тупика произошел в результате военного разгрома царской России на поле брани с «реальными» немцами и полного переосмысления парадокса «раба и господина» на интеллектуальном горизонте советского коммунизма.
Центральный аспект понятия «немец» связан с представлением о том, что господство «немца» над русским искажает самую сущность русских, подменяет их подлинную природу какой-то химерой. «Немец» онемечивает, меняет сущность, создает псевдоморфоз. Отсюда устойчивое выражение «насильственное онемечение» славян, соседей [ Соловьев , 1989, с. 269]. Одним из первых примеров народного осмысления подобного «псевдоморфоза» была легенда начала XVIII в., согласно которой Петр I – не настоящий, «природный» сын царя Алексея Михайловича, а «подмененный царь», «немец». В одной из версий этой легенды утверждалось, что «государь не царского колена, немецкой породы, а великого государя скрыли немцы у мамок в малых летах, а вместо него подменили нова. Немцы лукавы, лик под лик подводят» [ Чистов , 2003, с. 129; Белобородова , 2000, с. 99–100]. Любопытно взаимодействие сходных сюжетов: «Петр на самом деле немец» и «Петра подменил антихрист».
Концепция псевдоморфирующей функции «немца» была наиболее четко выражена в работе А. Хомякова «Записки о всемирной истории». В первой части этого сочинения обосновывается идея о том, что изначальное население Европы было славянским, но затем было вытеснено, ассимилировано или порабощено германскими и кельтскими племенами [ Хомяков , 1871, с. 96]. Такая интерпретация истории отсылает к концепции «двух Европ»: ложной Европы и подлинной Европы [ Нойманн , 2004; Морозов , 2009, с. 277–294] – и позволяет сделать два вывода. С одной стороны, «подлинная Европа» – славянская, но, с другой стороны, верно и обратное, что «подлинная Россия» – европейская. С этой точки зрения «немец» дважды отнял у славян/русских отечество и дважды исказил их сущность: первый раз, лишив их европейской отчизны, и второй раз, пытаясь насильственно «выдрессировать» русских по-немецкому (т.е. неподлинно европейскому) образцу, превратив их родину в бюрократическое полунемецкое государство.
Немецкая тема возникает у Хомякова и тогда, когда он развивает одну из своих самых значительных историософских идей о том, что завоевание «по неизменному нравственному закону» оказывает гораздо более губительное воздействие на завоевателя, чем на покоренного. «Зло возвраща- ется к своему источнику», поэтому в немце-завоевателе развивается горделивый аристократизм, который отзывается невосприимчивостью к чужой культуре и неспособностью понять другого, в то время как порабощенные славяне оказываются «ближе к общечеловеческим началам», так как «все человеческое находит в них созвучие и сочувствие» [Хомяков, 1871, с. 105–106, 461]. Кроме того, завоевание раскололо европейское общество и сознание европейцев, разделив их на завоевателей и завоеванных. В результате возникла потребность упорядочить отношения в расколотом обществе посредством внешних юридических форм, а в расколотом сознании – в виде гипертрофированно развитого рационализма.
Ю. Самарин интерпретировал «ложность» онемеченной Европы похожим образом. Во-первых, «германское национальное начало личности» вытеснило славянскую соборность как принцип организации общества, а во-вторых, оно стало выдавать себя за универсальный принцип, вытесняя альтернативные трактовки роли личности и коллектива на обочину истории. В результате, полагал Самарин, западники вроде Кавелина стали принимать отсутствие партикулярногерманского «начала личности» в России за отсутствие личности вообще и за признак некоей ущербности ее истории. Таким образом, мысли Кавелина трактовались как предложение «сперва сделать [из русского] Германца, чтобы потом научиться от него быть человеком» [ Самарин , 1877, т. 1, с. 43].
Ю. Самарин больше других славянофилов занимался «немецким вопросом», посвятив два года изучению Остзейского края. Его отношение к остзейским немцам было выражено в письмах 1847–1848 гг., в которых он утверждал, что «все здесь дышит ненавистью к нам» [ Самарин , т. 12, 255; т. 7, с. xlv]. Мысль о пагубности завоевания для завоевателя придает конкретность концепции «двух Европ»: «немец» исказил европейскую универсальность, «созвучность» общечеловеческим началам. Через критику «немца», через призыв к освобождению из-под его власти Хомяков осмыслял возможность «подлинной Европы» со «славянским лицом», исповедующей христианский демократизм и универсалистический гуманизм. Так, впервые в интеллектуальной истории России «немец» был приспособлен для того, чтобы через его критику утверждалась европейская идентичность России и ее неотъемлемая принадлежность к «семье цивилизованных народов». Как отмечает В. Морозов, «оппозиция "истинной" и "ложной" Европы... позволяет установить отношения эквивалентности между означающими "Россия" и "Европа" и тем самым подтвердить универсальную исходную посылку российского дискурса – принадлежность России к европейской цивилиза-ции»[ Морозов , 2008, с. 288]. Этот интеллектуальный механизм будет впоследствии неоднократно приведен в действие, а в годы Первой мировой войны приобретет статус официального дискурса.
«Немец-дьявол»
Рассмотрим «грамматику» (не)признания «немца» на примере того, как православные журналы отозвались на начало Первой мировой войны. Обсуждение этой темы сосредоточилось на двух моментах: «гордость» немцев и немецкое интеллектуальное иго. Так, публицисты отмечали «самообожание», «самомнение», «чудовищные размеры» «германской надменности», из-за которой немцы не признают равными себе никого, а славян считают «просто "навозом" для удобрения немецких успехов» [ Продан , 1914, с. 479; М.О., 1914, с. 851; Немецкая, 1914, с. 1252]. В военной публицистике, а не только в религиозной, получили распространение эмоционально нагруженные утверждения о том, что все немцы «смотрят на славянина как на низшую породу», считают, что самое название славянина происходит от римского «раб», «презирают русских», «считают [русских] за низшую расу, почти за дикарей» и т.д. [ Нецветаев , 1915, с. 32; Белавенец , 1914, с. 5; Наши враги…, 1914, с. 54].
Воплощением «немца» признается кайзер Вильгельм II, которого известный церковный публицист И. Восторгов называет «кровожадным и помешанным на гордыне» [Восторгов, 1914a, с. 2]. В церковной прессе «гордость» немцев приобретает религиозные коннотации: «немец» сопоставляется с демоном и Антихристом, которые в своей гордыне пошли наперекор божественной воле. Интересный риторический прием описания «немца» зафиксирован в статье профессора богословия Л. Соколова «Побежденный демон», опубликованной в «Трудах Киевской императорской духовной академии». Этот прием интересен тем, что автор ни разу не называет «немца» прямо, обходясь описаниями вроде «живой символ ницшеанского сверхчеловечества», «современный демон», «универсальный носитель зла», «новый Велиар» и т.п. [Соколов, 1914, с. 112–114]. Тем самым задействуется традиционная для народной культуры стратегия неназывания сакрального предмета, в частности, в православном обиходе – черта.
Взаимосвязь «немца» и «черта» в литературе и народной культуре России крепка и долговечна. Так, в диссертации Н. П. Поповой приводится целый ряд цитат из классической литературы на эту тему: «Немца какого-то... бес угораздил какую-то кислоту олеинову выдумать...» (Мельников-Печерский. На горах); «... Не черт, а немец движет паровоз» (Толстой. Война и мир); «Немец теперь, выходит, самого дьявола к своему делу пригнал» (Писемский. Горькая судьбина), черт «спереди совершенный немец» (Гоголь. Ночь перед Рождеством) [ Попова , 2007]. Исследовательская традиция объясняет ее логикой народного сознания, в котором немец занимал положение универсальной противоположности русского (русский/ нъмъць ) и обитателя мира по ту сторону значимой границы (мир людей/потусторонний мир), т.е. воспринимался как носитель некоего сакрального начала: греховного или, наоборот, благого [ Попова , 2007, с. 51–57]. Так и в лубках эпохи Первой мировой войны столкновение с Германией изображалось как апокалиптическая борьба добра и зла, а немцы приобретали демонические черты. В частности, кайзер постоянно представал в виде переодетого Антихриста, имел вид зверя с хвостом, копытами и рогом [ Jahn , 1995, р. 28.]. В иллюстрированном альманахе для народа о Вильгельме говорилось, что «...кайзер бешенный. // Точно черт в аду повешенный» [Бешеные…, 1914, с. 12].
Кроме того, в середине и второй половине XIX в. ассоциативные связи «немец–черт» и «немец–капиталист» переплетались под воздействием антибуржуазных настроений. Так, в знаменитом диалоге Мальчика в штанах и Мальчика без штанов у М. Е. Салтыкова-Щедрина (1880) описывается продажа рабочей силы капиталисту как продажа души дьяволу, причем Мальчик без штанов (русский) «задаром душу отдал», а Мальчик в штанах (немец) «за грош черту душу продал». У немца в контракте «все сказано ясно», а потому никаких недоразумений с «господином Гехтом» (чертом) не случалось. У русского отношения с чертом не определены, и, вероятно, Мальчик без штанов даже обратно может душу забрать [ Макеев , 2002]. К примеру, С. Н. Сыромятников, один из позднеимперских романтических критиков капитализма и урбанизма, призывал народы Востока объединиться для борьбы с «немцами» «как с собирательным Антихристом, противником естественной жизни, противником духовной и нравственной свободы...» [ Сыромятников , 1901, с. 30].
Протестантские корни «прегордых немцев»
Демоническая гордость «немца» интерпретировалась религиозными публицистами как результат господства рационализма в протестантском богословии [ Белоликов , 1914, vii; Восторгов , 1914, 17 авг., с. 2; 21 сент., Протестантство…, 1914, с. 1395], и связка «протестантизм – рационализм – гордыня – демонизм» для русского православного дискурса была традиционной [Голос, 1870, с. 431; Немецкая интеллигенция, 1875, февр., с. 197; авг., с. 436–437]. Владимир Соловьев, в частности, в своей «Краткой повести об Антихристе» упомянул о том, что Антихрист был связан с Тюбингенской школой рационалистического богословия [ Соловьев , 1901; Müller , 2006, S. 654–661]. Еще ранее в «Московском сборнике» К. П. Победоносцев отмечал, что, хотя «протестантское начало привело Германию к силе, к дисциплине и к единству», протестантизм же склонил Германию к «гордому поклонению своей правде» [ Победоносцев , 1901, с. 244]. Авторы церковной прессы подчеркивали, что учение Мартина Лютера («сатанинское дело прегордого Лютера» [ Восторгов , 1914, 17 авг., с. 2]) закономерно породило учение Ницше о сверхчеловеке, так как изначально делало акцент на горделивом вольномыслии, а не на смиренности, и затем заставило немцев, ослепленных своим величием, начать мировую войну. Ницше достаточно активно обсуждался на страницах церковных журналов, которые называли его «настоящим духовным вождем воинствующего германизма», «пророком антихристианства», «безбожным» и т.п. [Борьба, 1914, с. 12; Теплов , 1914, с. 3; Бронзов , 1914, с. 1220; Филевский , 1914, с. 1450].
Один из православных интеллектуалов приводил такую логическую цепочку: «основной пункт протестантского веросознания о спасении души одной верой, низводя всю религию в узкий круг здешних интересов, определил собою и рационалистическую безрелигиозность западной культуры... Вековая секуляризация западной культуры произвела, как плоть от плоти своей, столь ненавистный теперь всем тип сытого, самодовольного бюргера, из комфортабельной обстановки животного существования которого сейчас выпрыгнул настоящий дикий зверь» [Ремецзов, 1914, с. 131]. Протоиерей Иаков Галахов, профессор Томского университета, утверждал, что «крайний субъективизм лютеранства ведет к злу еще горшему [чем католичество]. Здесь каждый, полагаюсь на свое субъективное чувство, объявляет себя папой. Лютеранин остается в гордом убеждении, что между ним и Богом не может быть никакого посредства... Человеческая мысль, не стесняемая больше авторитетом откровения и коллективным разумом церкви, дала... рационалистическое богословие... Вместе с отрицанием главнейших догматов пали старые добрые нравы... На такой почве могла лишь вырасти вера в силу физическую и необыкновенный национальный шовинизм, желание занять господствующее положение среди всех народов мира» [Галахов, 1914, с. 176–179].
Об антихристианской сущности немецкой культуры вследствие господства идеалов протестантизма говорилось на страницах журнала «Христианин» [ Неметчина , 1914, с. 181–182]2. Этот и некоторые другие журналы использовали критику «немца»-протестанта для того, чтобы свести счеты со своими «немецтвующими» коллегами, увлекшимися рационалистическим протестантским богословием. Так, издание «Вера и разум» сетовало на то, что «немецкое богословие и немецтвую-щие профессора – это было что-то до слез обидное и печальное явление в наших российских православных духовных академиях» [ Ромашков , 1914, №24, с. 786].
«Немец-варвар» изгоняется из Европы
Церковная пресса охотно обсуждала тему «немца»-варвара, «немца»-зверя, подходя к ней со своей точки зрения: «немец» превратился в варвара вследствие того, что протестантизм настолько исказил подлинную сущность христианства, что «немец» в своем духовном развитии вернулся к языческой стадии [Отпадение…, 1914, с. 1189; Филевский , 1914, с. 1450]. Иоанн Восторгов писал, что «Бисмарк и Вильгельм сделали поворот германской жизни именно в эту [языческую] сторону, и то, что долго подавлялось в немецком народе, его хищнические инстинкты, его грубость и жадность... все это постепенно стало культивироваться в Германии, все эти начала греха и зла начали выходить наружу...» [ Восторгов , 1914, 21 сент., с. 2].
Генеалогия понятия «немец-варвар» восходит ко времени франко-прусской войны, после которой многие публицисты сравнивали Германию с главной угрозой «благосостоянию и просвещению Европы»3. Постепенно получало распространение слово «тевтон» как синоним «немца», но еще в 1891 г. читателям нужно было объяснять в сноске, кто это такой [ Розенгейм , 1891, с. 259]. С «тевтоном» обыкновенно «монтировались» представления о дикости, варварстве, необузданности, воинственности «немца». В публицистике военных лет «немец» был связан главным образом с понятием «варварства». В частности, утверждалось, что «немец» попрал «все законы человеческие и Божеские» и оказался "зверем", "варваром", бесчинствующим над невинными людьми [Переживаемый…, 1914, № 32, с. 6; Наши враги, 1914, с. 71; Резанов , 1915; Немцы-Варвары, 1914; Ковалевский и др., 1915, с. 4–9].
В религиозной прессе обсуждались кощунство и богохульство, которые творят «немцы»: предают поруганию церкви, пронзают штыками и пробивают «в глаза» иконы, «смеются над иконами» Богородицы, казнят священников [М.О., 1914, с. 851–852; Восторгов , 1914, 15 авг., с. 2]. Постоянно подчеркивалось, что «немцы» покусились на общеевропейское культурное достояние («разрушают драгоценные памятники старины и искусства») [ Ремезов , 1914, с. 131; Нецветаев , 1915, с. 7] и таким образом стали «врагами всеобщей культуры» [Переживаемый…, 1914, № 45, с. 10]. Распространенный прием – историческая ссылка на то, что «немцы» – это пришлый, варварский народ, который уничтожил высокую цивилизацию древнего Рима, и что в своей сущности он таковым и остался. Наконец, «немец» стал приобретать характер «диких», «нецивилизованных» азиатских народов; так, профессор правоведения Владимир Есипов называл немцев «тевтонскими башибузуками», сроднившимися в своей «низости и предательстве» с турками [ Есипов , 1914, с. 6].
Есипов же использует и недавно вошедшее в употребление слово «хулиган» применительно к «немцам», которое тогда было более тесно связано с этической проблематичностью поведения, чем со статьей уголовного права, как в наши дни. Для начала XXв. «хулиганство» – это прежде всего грубое пренебрежение достоинством чужой личности и значимостью чужой культуры (ср.: «...хулиганство – плод забвения и осквернения основных начал этики»). Так, «немцы»-хулиганы «бросают бомбы со своих цеппелинов в святыни Парижа, Брюсселя и Реймса» [ Есипов , 1914, 17– 20]4. Такое словоупотребление – одна из самых ярких «проговорок» о функционировании «немца» в политическом сознании позднеимперского периода в качестве концептуализации непризнания.
Согласно одному из аспектов концепции «двух Европ» «немец»-варвар выполнял и более конкретную функцию по утверждению европейской идентичности России. Критика «немца» как «зверя» и «варвара» позволяла российским интеллектуалам признавать принадлежность России к высокой европейской «цивилизации», не поступаясь российской культурной аутентичностью.
Цель этих риторических конструкций – символическое изгнание «немца» из Европы, доказательство случайности его пребывания там, исторической неукорененности, моральной и культурной недостойности называться «европейцем». Фигура исключения «немца» из Европы хорошо заметна в лубочном стихотворении «Страшный зверь»: «Кайзер варвар, кайзер бешенный... // Во все стороны бросается, // На Европу ухмыляется...» [Бешеные немцы, 1914, с. 12]. Эти строки с убедительностью рисуют Россию в качестве части Европы, на которую «ухмыляется» кайзер. Россия в прессе военных лет предстает как «подлинная Европа», так как она сохранила подлинные христианские ценности («Бог гордым противится, смиренным же дает благодать»; Россия поступает с ранеными вражескими солдатами «по-православному, а не по-немецки»; Россия несет народам Востока свет истинной веры, а не «высасывает все соки из населения», как Германия [ Восторгов , 1914, 17 авг., с. 3; 7 сент., с. 2; № 11, с. 8]). Дмитрий Мережковский выразил эту идею словами: «На немецкие зверства мы ответили русскою человечностью... Если немцы – звери, то мы будем людьми, и чем больше они звери, тем больше будем людьми» (цит. по: [Переживаемый…, 1914, №32, с. 7]). Тот же журнал, который процитировал Мережковского, развивает его мысль: «…нам говорят, что немцы пристреливают наших раненых, а мы будем перевязывать раны немецким раненым... В самом деле, если мы станем подражать немцам в их грубости, выйдет, что они нам диктуют наше поведение...» [Переживаемый…, 1914, №34, с. 7]. В результате авторы возвращаются к формуле Алексея Хомякова: будущее принадлежит не «германцу, аристократу и завоевателю», а «славянину, труженику и разночинцу» [ Писарев , 1914, с. 318].
С особой интеллектуальной силой идея немецкого «варварства» была выражена в работе Бердяева «Смысл творчества» (1916), в которой он утверждал, что, несмотря на успехи «германской расы» в философии и культуре в целом, она осталась по своей сути варварской, и называл Лютера и Канта «великими варварами». Подобно своим далеким предкам, варварам-язычникам, разрушившим древний Рим, современные «немцы» разрушают «органическую, сверхличную преемственность всякой культуры» посредством философской критики и крайнего индивидуализма. Поэтому немецкая культура не может произвести ни универсальных ценностей, ни позитивного творчества, падая с небывалых высот философского познания в «рабство духа» [ Бердяев , 2011, с. 343, 525–528].
«Тевтонский гипноз» рассеивается
Рассматривая позицию церковной прессы, нельзя не увидеть, что это лишь частный случай более общего механизма переосмысления «немца» как недостойного признания. Согласно типичной стратегии описания «немца» он неожиданно оказался недостойным или был разоблачен как таковой, хотя он долгое время «казался» достойным. Отсюда связь «немца» с «изменой», «отступничеством», «наваждением». Так, церковные публицисты отмечали, что «немец» «сбросил с себя христианский покров»; «туман, застилавший нашу русскую землю», рассеялся; «немецкое наваждение» прошло; произошло освобождение от «тевтонского гипноза», «сдуло вековой немецкий гипноз», «глаза открылись» и т.д. [ Айвазов , 1914, с. 151; Арсений , 1914, с. 39, Неметчина, 1914, с. 181; Бронзов , 1914, с. 1222; Грядущее, 1914, с. 1411].
Немецкое «отступничество», «измена» подробно исследуется в статье М. О. Меньшикова «Немецкая душа» (1915), в которой он утверждает, что внутренняя сущность немца заключается в склонности к измене, будь то изменничество германцев, которые сначала присягнули Риму, а затем отпали от него, или Реформация – измена католицизму, или германский феодализм – «непрерывная измена немцами государственности» [ Меньшиков , 1999, с. 494–497]. Связь «немца» с «изменой» была фатальной в восприятии «немца» в военные годы, когда антинемецкие погромы оправдывались тем, что «немцы засели во всех центральных учреждениях и нарочно пакостят», что в штабах действуют немецкие генералы-изменники, а по всей стране – немецкие шпионы [ Оболенская , 2000, с. 175; Лор , 2012, с. 37–39]. Наложившись на народный сюжет о «подмененном царе», представление о «немецкой измене» сыграло свою роль в дискредитации Николая II и императрицы, причем это мнение разделялось как в народе, так и в среде интеллигенции [ Колоницкий , 2010, с. 231–234]5. Так славянофильская теория о «публике и народе» и «внутреннем немце» драматически выкристаллизовалась в практическое политическое действие, основанное на алармистском лозунге о «внутренней германской угрозе».
Тема «немецкого наваждения» добавляла строительного материала в конструирование связи между «немцем» и «нечистой силой», а также позволяла конкретизировать представление о том, что «немец лукав», что он не тот, кем кажется. В то же время религиозные аспекты «немца» как протестанта/рационалиста/язычника давали возможность переосмыслить концепцию «двух Европ» в славянофильском ключе: «немец», несмотря на его «христианский покров», на деле является отступником от подлинного христианства. Соответственно «Европа», которую он воплощал, оказалась не подлинной, а ложной, зашедшей в тупик в своем рационализме и совершившей падение в язычество. Эта идеологическая конструкция, заключавшая в себе переосмысление идеи «Москвы как третьего Рима», подкрепляла представление о русском православии как подлинном европейском культурном базисе.
Риторика «немецкого наваждения», направленная на обоснование «недостоинства» немца и «неподлинности» немца как метонимии европейца, создавала сложную моральную и интеллектуальную дилемму, так как предполагала, что русские находились в зависимости и подчинении у химеры, подделки, «нечистой силы». Что же это за народ, который столетия смиренно пребывал под «тевтонским гипнозом»? Этот болезненный вопрос постоянно ставился в религиозной прессе, в которой по контрасту с «гордыми» немцами «мы» изображались как «смиренные... вечные ученики» немцев, которые постоянно проявляют «робость и как[ую-то] забитость... постоянное пресмыкательство перед немцами» [ Галахов , 1914, с. 166; Ромашков , 1914, №24, с. 787]. Священник Н. Писарев в своей статье цитировал речь генерала М. Скобелева: «Мы не хозяева в собственном доме... Мы игрушки его политики, жертвы его интриг, рабы его силы... Вы все его знаете – это немец» [ Писарев , 1914, с. 267].
В результате немецкого господства произошло «обезличивание» русских, которым уже давно пора «почувствовать себя самими собой», освободиться от «векового гнета иноземщины», «умственного, культурного плена» [ Ремезов , 1914, с. 129; За что сражается..., 1914, с. 1007; Меньшиков , 1999, с. 500]. В частности, немецкий рационализм «иссушал религиозные ростки нашей собственной культуры» [ Ремезов , 1914, с.132]. Казанский священник Евгений Сосунцов утверждал, что из-за немцев Россия «начала утрачивать подлинный образ и надела омерзительную маску немецкого интеллектуализма и соединенных органически с ним мерзостей лжекультуры» [ Сосун-цов , 1914, с. 1095]. Другой распространенный троп - «растление» немецким духом России [ Ремезов , 1914, с. 133]. Так, епископ Серпуховский Арсений (Жадановский) писал: «…немецкое засилье извратило наш русский коренной строй – подорвало и унизило национальное наше чувство, развило у нас гордость, задушило нашу русскую простоту...» [ Жадановский , 1914, с. 26]. Конкретный пример, приводимый религиозными публицистами, это распространение штундизма на юге Российской империи. Так, священник Д. Ромашков был уверен, что рост влияния штундизма – это сознательная инициатива немецкого правительства, «тонко рассчитанная на искажение и вытравление веры в сердцах простых русских людей...» Аналогичным образом протоиерей Восторгов утверждал, что баптизм в России поддерживается на немецкие деньги [ Ромашков , 1914, № 23, с. 657; Восторгов , 1914, №12, с. 4].
Заключение
Политизация этнонима «немец» как одного из базовых понятий периферийной империи проявилась в появлении на его основе понятия «германизм». Как писал Р. Козеллек, «можно утверждать... что все современные "-измы" образованы напряжением между опытом... и ожиданием... Эти самые "-измы" являются индикаторами истории понятий» (цит. по [ Бедекер , 2010, с. 26]). Ни один другой этноним в имперской России не создал подобного словообразования, которое бы вышел за рамки филологического дискурса. «Германизм» встал в один ряд с такими же комплексными и противоречивыми понятиями, как, например, «либерализм» и «консерватизм»; более того, он сам стал идеологией – одной из немногих оригинальных, не заимствованных в отличие от того же либерализма идеологий позднеимперской России. В представлении Козеллека, момент появления словообразований на «-изм» – это Sattelzeit, ключевое время в европейской интеллектуальной истории, когда понятие вбирает в себя понимание времени. Появившееся в конце XIX в. понятие «германизм» приобрело значение исторического метанарратива, объясняющего прошлое России как «подчинение» и «псевдоморфозу» под влиянием «немца», а также значение прогностического инструмента, позволяющего предсказать «неизбежную» войну между миром «славянства» и «герман-ства».
Таким образом, «немец» как понятие обладал внутренней динамикой. Переходя от обозначения коллективности (этноним) к обозначению статуса (немец-колонист, немец-бюрократ, немец-
«фон-барон» и т.п.) и, далее, к обозначению процесса и явления («германизм»), понятие «немец» маркирует истинное «поворотное время» в истории императорской России как время постепенной политизации морального отношения к «Другому» и его превращение в гегемонистского «Другого». Итак, в конце XIX – начале XX в. вокруг «немца» как понятия «уплотнялся» дискурс, за которым стояли важные незаконченные и травматические опыты определения российской идентичности.
Список литературы «...Обезличил нас и властвовал над нами» понятие «немец» в российских позднеимперских политических дебатах
- Freeden M. The Political Theory of Political Thinking. Oxford, 2013.
- Herrmann D., Ospovat A. (Hrgbs.). Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht: in 5 Bd. MUnchen, 1989, 1992, 1998, 2005, 2006.
- Honneth A. Recognition as Ideology//Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory/B. van den Brink, D. Owen (eds.) Cambridge, 2007.
- Honneth A. The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict. Cambridge, 1995.
- Jahn H. Patriotic Culture in Russia during World War One. Ithaca, 1995.
- Kopelev L. Deutsch-russische Wahlverwandtschaft//Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. Bd. 3. 19. Jahrhundert: Von der Jahrhundertwende bis zu den Reformen Alexanders II/D. Herrmann, A. Ospovat (Hrgbs).Munchen, 1998.
- Koselleck R. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts. Stanford, 2002
- Long J. From Privileged to Dispossessed: The Volga Germans, 1860-1917. Lincoln, 1988.
- Muller L. Vladimir Solov'e'v: Deutschland und der Antichrist//Deutschland und Deutsche aus russischer Sicht/D. Herrmann, A. Ospovat (Hrgbs.). Munchen, 2005. Bd. 4b.
- Palonen K. Politics and Conceptual Histories: Rhetorical and Temporal Perspectives. Baden-Baden, 2014.
- Peskov A. Der deutsche Komplex der Slavophilen//Deutsche u. Deutschland aus russischer Sicht/D. Herrmann, A. Ospovat (Hrgbs.). Munchen, 1998. Bd. 3.
- Schulze-Wessel M. RuBlands Blick auf PreuBen. Die polnische Frage in der Diplomatie und der politischen 0f-fentlichkeit des Zarenreiches und des Sowjetstaates 1697-1947. Stuttgart, 1995.
- Skinner Q. Visions of Politics. 3 vols. Cambridge, 2002. Vol. 1: Regarding Method.
- Szarota T. Der deutsche Michel: Die Geschichte eines nationalen Symbols und Autostereotyps. Osnabruck, 1998
- Айвазов И. С нами Бог!//Голос церкви. 1914. Сент.
- Арсений, еп. Серпуховский. Речь при совершении общественного молебна//Голос церкви. 1914. Дек.
- Бедекер Х. Э. История понятий, история дискурса, история менталитета. М., 2010.
- Белавенец П. И. Великая победа славян над немцами (тевтонами) при Грюнвальде. Пг., 1914.
- Белобородова И. Н. Этноним «немец» в России: культурно-политологический аспект//Общественные науки и современность. 2000. №2.
- Белоликов В. З. Слово в день св. Апостола Иоанна Богослова «Любовь -необходимое условие богопо-знания»//Тр. импер. Киевской Духовной Академии. 1914. Нояб.
- Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. М., 2011.
- Бешеные немцы: Юмористический альманах. М., 1914.
- Борьба за христианские идеалы//Церковно-общественный вестник. 1914. № 38-39.
- Бронзов А. Гипноз «бесчестных и позорных варваров»//Церковный вестник. 1914. №41.
- Буткова Н.В. Образ Германии и образы немцев в творчестве И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского: дис.. канд. филол. наук. Волгоград, 2001.
- Васильев А. В. Миру-народу мой отчет за прожитое время: сб. статей, докладов, речей, стихов и заметок по вопросам христианской нравственности, права, государственного управления и хозяйства. Б.м. 1908.
- Воейков А. Ф. Письмо из Сарепты//Сын отечества. 1813. Т. 5. №18.
- Восторгов И. Грядущая новая Россия//Церковность. 1914. 21 сент.
- Восторгов И. Еще о «немецкой вере»//Православный благовестник. 1914. № 11, 12.
- Восторгов И. Новый Навуходоносор//Церковность. 1914. 17 авг.
- Восторгов И. Успение Богородицы//Церковность. 1914. 15 авг.
- Галахов И. Христианские недоумения по поводу войны//Вера и разум. 1914. №20.
- Голос сочувствия к православию в протестантстве//Православное обозрение. 1870. Окт.
- Грядущее освобождение//Церковный вестник. 1914. № 47.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1865. Ч. 2.
- Есипов В. Славяне, немцы и турки. «Культурная» Германия. Галиция и Польша. История повторяется. Отклики войны. Пг., 1914.
- Жадановский А. Речь, сказанная в Московском Политехническом музее//Голос церкви. 1914. Окт.
- Жарких Е. В. Германия и немцы глазами русских в конце XIX -начале XX в: социально-экономические аспекты восприятия: дис.. канд. ист. наук. Орел, 2005.
- За что сражается Россия?//Церковные ведомости. 1914. №34.
- Катков М. Н. Собрание передовых статей «Московских Ведомостей». 1867 год. М., 1897.
- Ковалев Г. Ф. Этнонимия славянских языков. Номинация и словообразование. Воронеж, 1991.
- Ковалевский П.И., С. Н. Сыромятников, А. М. Михайлов. Наши враги: Очерки. Пг., 1915.
- Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010.
- Лор Э. Русский национализм и Российская империя: кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны. М., 2012.
- М. О. Страшное падение//Вера и разум. 1914. №18.
- Макеев М. Договор с дьяволом в условиях становления капитализма в России//Нов. лит. обозрение. 2002. №58.
- Меньшиков М. О. Немецкая душа//Меньшиков М. О. Письма к русской нации. М., 1999.
- Миллер А. Понятия о России: в 2 т./Д. Сдвижков, И. Ширле. М., 2012. Т. 1.
- Морозов В. Е. Россия и Другие. Идентичность и границы политического сообщества. М., 2009.
- Мыльников А. С. Картина славянского мира: Взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI-начала XVIII в. СПб., 1999.
- Наши враги Немцы. М., 1914.
- Неметчина в духовных академиях//Христианин. 1914. Окт. -нояб.
- Немецкая гордыня и русское смирение//Церковный вестник. 1914. №42.
- Немецкая интеллигенция (письма из-за границы)//Православный собеседник. 1875. Февр., авг.
- Немцы России: Энциклопедия: в 3 т./В. Карев и др. М., 1999-2006.
- Немцы-Варвары. Творимые ими ужасы в наши дни над нашими отцами, братьями и сестрами. М., 1914.
- Немцы в России: Петербургские немцы/Г. И. Смагина. СПб., 1999.
- Нецветаев А. Борьба тевтонов с славянством. М., 1915.
- Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004.
- Оболенская С.В. Германия и немцы глазами русских (XIX век). М., 2000.
- Отпадение от христианства//Церковный вестник. 1914. №40.
- Переживаемый исторический момент//Церковно -общественный вестник. 1914. №32, 34, 45.
- Писарев Н. К вопросу о причинах и задачах современной войны//Православный собеседник. 1914. Сент.
- Победоносцев К. П. Московский сборник. М., 1901.
- Попова Н.П. Ассоциативно-семантическое поле «немец» в русском языке: дис.. канд. филол. наук. СПб., 2007.
- Продан И. С. Правда о Канте//Вера и разум. 1914. №10.
- Протестантство и немецкие зверства//Церковный вестник. 1914. №46.
- Резанов А. С. Немецкие зверства. Пг., 1915.
- Ремезов А. На освободительную войну за присных своих!//Вера и разум. 1914. № 19.
- Розенгейм М. 6-е апреля 885 -1885//Славянские известия. 1891. №15.
- Ромашков Д. Война и мир (продолжение)//Вера и разум. 1914. №23, 24.
- Русское обозрение. 1896. Т. 42. №11.
- Самарин Ю. Ф. Сочинения: в 12 т. М., 1877. Т.1;1887. Т.7; 1911. Т.12.
- Соколов Л. Побежденный демон//Тр. импер. Киевской Духовной академии. 1914. Сент. -окт.
- Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением Краткой повести об антихристе. СПб., 1901.
- Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1.
- Сосунцов Е. Немецкое иго//Церковные ведомости. 1914. № 37.
- Сыромятников С.Н. (Сигма). Опыты русской мысли. СПб., 1901. Кн. 1.
- Теплов В. Религиозный смысл настоящей войны//Церковно-общественный вестник. 1914. № 48.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1996. Т. 3.
- Филевский И. Германизм и христианство//Церковный вестник. 1914. №48.
- Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3: Записки о всемирной истории. М., 1871.
- Чистов К. В. Русская народная утопия. Генезис и функции социально-утопических легенд. СПб., 2003.