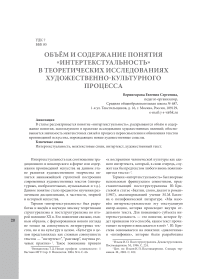Объём и содержание понятия "интертекстуальность" в теоретических исследованиях художественно-культурного процесса
Автор: Вернигорова Евгения Сергеевна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие «интертекстуальность», раскрываются объём и содержание понятия, используемого в практике исследования художественных явлений; обосновывается значимость межтекстовых связей в процессе переосмысления и обновления текстов произведений искусства, порождающих новые художественные смыслы.
Интертекстуальность, межтекстовые связи, художественный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/170174095
IDR: 170174095 | УДК: 7
Текст научной статьи Объём и содержание понятия "интертекстуальность" в теоретических исследованиях художественно-культурного процесса
Интертекстуальность как соотношение традиционного и новаторского в форме или содержании произведений искусства на данном этапе развития художественного творчества является наиважнейшей стратегией построения современных художественных текстов (литературных, изобразительных, музыкальных и т.д.). Данное понятие стало предметом изучения различными дисциплинами, в частности, теорией и историей искусства.
Термин «интертекстуальность» был разработан и введён в научную лексику теоретиками структурализма и постструктурализма во второй половине ХХ в. Его появление связано, главным образом, с формированием нового взгляда не только на совокупность литературных текстов, но и на культуру в целом. «Культура в целом представлялась как сложная совокупность текстов — “интертекст”, “разговор”, паутина речев ых практик» 1. Та кое понимание привело
«к восприятию человеческой культуры как единого интертекста, который, в свою очередь, служит как бы предтекстом любого вновь появляющегося текста» 2.
Термин «интертекстуальность» был впервые использован французcким семиотиком, представительницей постструктурализма Ю. Кри-стевой в статье «Бахтин, слово, диалог и роман» (1967), анализировавшей учение М. М. Бахтина о полифонической литературе. «Мы назовём интертекстуальностью эту текстуальную интер-акцию, которая происходит внутри отдельного текста. Для познающего субъекта интертекстуальность — это понятие, которое будет признаком того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в неё» 3. Ю. Кри-стева основывается на понятиях «диалогизма» и «полифонии», которые были разработаны
М. М. Бахтиным, подчёркивая свойство любого текста вступать в диалог с другими текстами и называет эту способность интертекстуальностью.
Несмотря на то, что об интертекстуальности учёные заговорили только в ХХ в., тем не менее, корни данной концепции, а, точнее, — концепции диалогизма, лежащего в основе понятия «интертектуальность» — уходят в античную философию, в учение о подражательной природе искусства.
Античные мыслители уделяли внимание вопросам художественного познания, ответы на которые видели в миметической (подражательной) природе искусства, как важного способа передачи полученного опыта, передачи его от поколения к поколению. Наиболее полную разработку данная концепция получила в трудах Аристотеля, положившего принцип подражания в основу объяснения природы, функций и специфики художественного творчества: «врождённо всем людям с детства подражать… и любоваться подражанием» 4. Но подражание не является синонимом понятия «копирование», скорее это — творческое переосмысление образов, интерпретация. Художественное познание Аристотель связывает с «неведомым моментом получения удовольствия и радости узнавания, когда что-то знакомое воссоздаётся в памяти и дарит более глубокое познание объекта» 5.
На дальнейшее развитие теории интертекстуальности повлияли исследования А. Н. Веселовского (1838–1906), в частности, его труд по «поэтике сюжетов», в котором автор, рассуждая о сходстве сюжетных очертаний между сказкой и мифом, объясняет этот феномен «не их генетической связью,.. а единством материалов и приёмов и схем, только иначе приуроченных» 6. Далее Веселовский А. Н. говорил о связи старых текстов с новыми: «старая схема подавалась, чтобы включить в свои рамки яркие черты события, взволновавшего народное чувство, и в этом виде вступала в дальнейший оборот, обязательный для поэтики следующих поколений» 7.
В 1920-х гг. Б. В. Томашевский наметил проблему межтекстовых «схождений», уточнив, что данное понятие «обогнало свою эпоху». Учёный считает, что главной целью исследователей литературных текстов является «различение разных родов (типов) текстовых схождений» 8.
Учение М. М. Бахтина о диалогическом слове впервые было сформулировано в книге «Проблемы творчества Достоевского» (1929) и получило развитие в более поздних работах. По идее автора, ни одно высказывание или же текст не существует изолированно, а предполагает наличие и использование уже существующих высказываний и вступление с ними в определённые отношения, диалог. Оно либо опирается на них, либо полемизирует и противопоставляется им. Бахтин считал, что «каждое высказывание — это звено в очень сложно организованной цепи других высказываний» 9. М. М. Бахтин поясняет: «чужие высказывания» имеют различные формы, они «могут прямо вводиться в контекст высказывания, могут вводиться только отдельные слова и предложения», или же на чужие слова «можно просто ссылаться,.. их можно молчаливо предполагать» 10.
«Интертекстуальность,— замечает И. В. Волков,— в эпоху постмодернизма превращается в основной принцип порождения художественных текстов» 11. Теория интертекстуальности в настоящее время рассматривается как одна из важнейших категорий художественного анализа текста, во многом благодаря тому, что строится на непрерывности художественно-исторического процесса. Главной проблемой, которая возникает перед исследователем какого-либо текста, является обнаружение других текстов или же их элементов, которые автор данного произведения использовал в своём творчестве. Более того, соотнесение текста с соответствующим культурным контекстом. Таким образом, интертекстуальность следует рассматривать как определённую концепцию творчества — диалогический процесс, который заключается в том, что новое творение может являться отголоском уже созданных ранее произведений.
Механизм интертекстуальности — один из способов обновления исторической памяти человечества. Интертекстуальность является своеобразной призмой, в которой отражается культурная память и преобразуется общее смысловое поле текстов, формирующее ряд словесных, образных и событийных ассоциаций. В основе этого процесса лежит традиция, построенная на системе законов, которые влияют на представления как реципиента, так и автора: о художественном произведении, его жанре, средствах образности. Они влияют на художественную память автора, побуждая его к творческому процессу.
Масштабы интертекстуальности могут быть различными и колебаться от небольших элементов, заимствованных из художественного произведения, до целых произведений. Любой художественный канон прошлого, став незыблемым стандартом за многие годы постоянных повторений, может быть переосмыслен и понят по-новому. «Автор вступает в диалог с текстом или же с автором текста, и эти два начала могут быть жёстко противопоставлены между собой или же сливаться, образуя единое целое. В подвижности границы, её крайней изменчивости раскрываются удивительное богатство творческого мышления, его подлинная свобода» 12.
Суть интертекстуальности сводится к созданию нового смыслового мира для художественных элементов, при заимствовании которых и переносе их в совершенно иное, новое художественное пространство привычные концептуальные связи уже не могут существовать. Интертекстуальные включения преобразуются в соответствии с требованиями стиля и авторского замысла. Основой авторской идеи может стать любой элемент другого художественного произведения — образ, мотив, сюжет или же отдельная деталь вышеназванных объектов, которая будет повторяться в каждом новом произведении в новом варианте. Заимствованный элемент как бы рождается заново и принимает нужное значение в зависимости от общего задания произведения, для которого автор создаёт новое художественное пространство. Таким образом, автор «вступает в интертекстуальную игру и с отдельными художественными произведениями разных эпох, и с их творцами» 13, и, следовательно, с реципиентом. Целью интертекстуальности является создание новых уникальных смыслов текста произведений искусства, которые усложняются, становятся концептуально более насыщенными и требуют, в свою очередь, от воспринимающего большего внимания.
Интертекстуальная связь рассматривается в рамках данного исследования как процесс, играющий роль обогащения художественного текста, добавляющий в него элементы из уже существующих текстов с целью придания художественным образам большей выразительности, насыщения текста дополнительными оттенками смысла, которые ни в коей мере не мешают функционированию текста-источника. Однако, «дополнительные оттенки» нового текста могут быть замечены только тем воспринимающим субъектом, который знаком с текстом-источником.
Очевидной возможность текстов взаимодействовать между собой становится при условии существования единого текстового пространства. Наличие такого пространства, возможность заимствования элементов уже существующих текстов и создания разного уровня связей между ними и определяет сам феномен интертекстуальности. Вероятно, поэтому приёмы интертекстуальности могут одновременно и подчиняться общей структуре, и быть относительно независимыми элементами текста; «быть как вольными, так и невольными заимствованиями» 14.
Действительно, сложно по достоинству оценить известное литературное, живописное или же музыкальное произведение, не осознавая и не имея возможности считать контексты, в рамках которых это произведение было создано, на которые опирался его создатель, что хотел объяснить или изобразить в той или иной форме. Такие контексты представляют собой основной каркас, благодаря которому реципиент в состоянии получить наслаждение от всей глубины произведения, игры смыслов и подтекстов. Каждое новое прочтение является своего рода перезаписью текста, но уже в новом варианте, как этого трактует феномен интертекстуальности.
Из выше проведённого анализа следует, что интертекстуальность как механизм переосмысления и обновления в современном искусстве превратилась в один из основных принципов порождения художественных текстов, совокупность которых определяется такими признаками, как «открытость, подвижность, разомкну-тость в бесконечном пространстве культуры» 15.
Художественный текст «помнит» не только культуру прошлого и настоящего, но и культуру будущего, так как каждое отдельное произведение — это всего лишь отдельный этап в развитии духовной традиции, являющийся её продолжением на новом витке спирали истории. Благодаря установлению связей какого-либо произведения с ранее созданными, интертекстуальность становится продуктивным методом формирования как новых смысловых структур, так и возможностью многогранного прочтения текстов художественных произведений.
Список литературы Объём и содержание понятия "интертекстуальность" в теоретических исследованиях художественно-культурного процесса
- Аристотель. О поэзии // Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. М., 1999.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М., 1979.
- Венедиктова Т. Д. Новые профили «словесности» // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2004. № 6. С. 64-71.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989.
- Войченко А. А. Культурно-исторические аллюзии в рекламе: эстетический аспект: дис. . канд.филос.наук: 09.00.04. М., 2012.
- Волков И. В. Лабиринты Джона Барта. Интертекстуальность. Пародия. Автоинтертекстуаль-ность. М., 2006.
- Денисов А. В. Интертекстуальность в музыке: Исследовательский очерк. СПб., 2013.
- Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.
- Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Олизько Н. С. Интертекстуальность постмодернистского художественного дискурса (на материале творчества Дж. Барта). Попытка семотико-синергетического анализа. Челябинск, 2007.
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие. М., 2002.