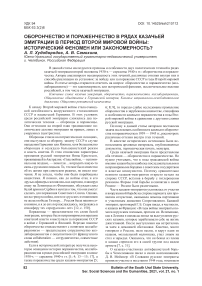Оборончество и пораженчество в рядах казачьей эмиграции в период Второй мировой войны: исторический феномен или закономерность?
Автор: Худобородов Александр Леонидович, Самохина Анна Владимировна
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.21, 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье исследуются причины и особенности двух политических течений в рядах казачьей эмиграции второй половины 1930-х - середины 1940-х гг.: оборончества и пораженчества. Авторы анализируют неоднородность этих течений, различные оттенки внутри них и способы реализации их установок: за победу или за поражение СССР в годы Второй мировой войны. В статье авторы стараются ответить на вопрос: оборончество и пораженчество (коллаборационизм) - это закономерность или исторический феномен, исключительное явление российской, в том числе казачьей эмиграции.
Казачья эмиграция, оборончество, пораженчество, коллаборационизм, общеказачье объединение в германской империи, казачье национально-освободительное движение, общество ревнителей казачества
Короткий адрес: https://sciup.org/147233446
IDR: 147233446 | УДК: 94 | DOI: 10.14529/ssh210112
Текст научной статьи Оборончество и пораженчество в рядах казачьей эмиграции в период Второй мировой войны: исторический феномен или закономерность?
К началу Второй мировой войны стала очевидной неизбежность вооруженного столкновения СССР и нацистской Германии. В этих условиях среди российской эмиграции сложились два политических течения — оборонцы и пораженцы. Они оттеснили на второй план традиционное политическое деление эмиграции на правых, левых и умеренных (центристов).
Оборонцы стояли на патриотических позициях, они выступали за оборону, защиту СССР в случае нападения Германии или Японии, хотя большинство оборонцев и осуждало большевистский режим и власть советов. В этом отношении характерны признания русской эмигрантки Нины Кристесен, проживавшей в Австралии. «Годы войны, — вспоминала она позднее, — помогли… возродить какую-то связь с русскими людьми. То, что мне было известно об их жизни при советском режиме, не имело значения. Я не хотела, чтобы они были порабощены нацистами. Я помню, как до войны отец и его друзья-офицеры склонялись над картами, планируя атаку на Ленинград из Финляндии, обсуждая силы белой армии в Сербии и мечтая о том, что они смогут сделать для поражения Советского Союза. Однако, когда грянула война, никто из русских изгнанников не желал победы Гитлеру… Россия была нашим союзником, и я до сих пор наслаждаюсь, погружаясь в атмосферу тех «прорусских» лет» [12, с. 150].
Пораженцы — представители тех слоев белой эмиграции, которые были непримиримыми врагами советской власти и выступали за поражение СССР в войне с Германией и Японией. Нередко понятие оборончества отождествляют с понятием коллаборационизм — предательское сотрудничество коллаборационистов с оккупантами (от французского слова collaboration — сотрудничество, совместные действия).
Если в исторической литературе получила некоторое освещение история пораженчества, коллаборационизма в рядах российской эмиграции в конце 1930-х — середина 1940-х гг. [1; 4; 13—15; 17], а также пораженчества среди казаков-эмигрантов [5;
6; 8; 9], то гораздо слабее исследованы проявление оборончества в зарубежном казачестве, специфика и особенности казачьего пораженчества в годы Второй мировой войны в сравнении с другими слоями русской эмиграции.
Поэтому в данной статье авторами поставлена задача исследовать особенности казачьего оборончества и пораженчества в 1939 — 1945 гг., рассмотреть различные оттенки внутри этих течений.
В качестве исторических источников были использованы архивные материалы, опубликованные документы, периодическая печать, мемуары.
Среди казачьей эмиграции были представлены оба течения — оборончество и пораженчество. Но нужно учитывать, что в годы гражданской войны именно казаки были наиболее последовательными и непримиримыми борцами с советским государством и властью коммунистов. Поэтому сравнительно немного казаков-эмигрантов открыто встало на сторону СССР, вступив в борьбу с гитлеровским режимом. Формы этой борьбы и симпатии к своей Родине — России были различными.
Часть казаков-эмигрантов уклонялась от участия в вооруженной борьбе на стороне вермахта или проявляла сочувствие, оказывала помощь партизанам и участникам движения Сопротивления. Бывший эмигрант, протоиерей Г. Б. Старк писал, в частности, о казаках во Франции: «В годы войны эмигранты помогали русским пленным, прятали их. Вспоминаю, как в Леможе я однажды попал на выступление русских казаков, которые зарабатывали себе на жизнь джигитовкой. После выступления мы встретились за чаем в домашней обстановке. Конечно, много говорили о России, пели песни, и вдруг один из казаков, молоденький мальчишка, упал лицом на стол и зарыдал. Оказалось, что он бежал из плена и казаки спрятали его в своей труппе под видом артиста [7, с. 31].
О казаках-участниках антифашистской борьбы в Чехословакии писал в своих воспоминаниях Д. И. Мейснер: «В Словакии русские эмигранты приняли участие в восстании 1944 года, носившем подлинно героический характер… В городе Банска-Бистрица — центре восстания — местный врач по происхождению донской казак В. П. Каклюгин ушел вместе с партизанами в горы, а когда они были в городе, предоставил свою квартиру в распоряжение борцов Сопротивления. Его задачей было содействие партизанам прежде всего врачебной помощью. В борьбу включалась также вся семья. Дочь Ирина, ныне живущая в Болгарии [воспоминания Д. И. Мейснера написаны в 1960-е гг. — А. Х., А. С.], стала радисткой партизанского отряда, а 16-летний сын Владимир — связным словацкого Национального совета […]
Бывали и более сложные случаи: инженер Поляков тоже донской казак, не принадлежал к тем, кто радовался приходу русских. Партизаны после занятия Банска-Бистрицы его даже арестовали. Он просидел 2 месяца, пока партизаны были в городе, потом они взяли его в горы как арестованного. В ноябре горный район, где скрывались партизаны, был окружен бандеровцами и гитлеровскими отрядами. Они прорвали оборону партизан и принялись за расстрелы. В эти тяжелые минуты Поляков сразу определил свое место. Он добился, чтобы ему дали оружие и героически дрался с немцами и бандеровцами. После окончательного освобождения страны он одним из первых стал советским гражданином и уехал на родину» [10, с. 260].
Иногда казаки-эмигранты активно поддерживали Советский Союз и Красную армию по идейным и политическим причинам. Сербы, хорваты и словенцы до сих пор чтут память оренбургского казака Фёдора Евдокимовича Махина. Еще в 1930-е годы он в своих статьях в белградском журнале «Русский архив» дал анализ военно-политической обстановки в Европе и точный прогноз будущих направлений гитлеровской агрессии. В этом отношении объективностью анализа отличается его статья «Стратегическое положение Германии», опубликованная в номерах 37 и 38 этого журнала. В 1939 г. бывший полковник Оренбургского войска Ф. Е. Махин вступил в ряды Компартии Югославии, находившейся в глубоком подполье, а с 1941 г. он в составе Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). Все годы войны Ф. Е. Махин был одним из руководителей отдела пропаганды верховного штаба НОАЮ и начальником его исторического отдела. Он был автором книг и статей о Красной Армии, ее истории, ее роли в Великой Отечественной войне. Умер Ф. Е. Махин в звании генерал-лейтенанта НОАЮ в июне 1945 г. Его именем названа одна из улиц Белграда [19, с. 136].
Что касается пораженцев, которых было большинство среди казаков-эмигрантов, то они были расколоты в вопросе о дальнейшей судьбе России. Одни стояли за возрождение единой национальной России, другие за ее расчленение и создании Каза-кии. Нужно учесть что среди пораженцев довольно большим был процент пассивных, которые не горели желанием участвовать в боевых действиях на стороне Германии, до них доходила информация о «новом порядке» и зверствах нацистов на оккупированной советской территории. Об этих пассивных пораженцах с сожалением и даже с раздражением писал атаман Общеказачьего объединения в Германской империи генерал Е. И. Балабин в одном из своих писем в конце января 1944 г.: «В Праге все спокойно. Казаки, кроме кубанцев, проявляющих деятельность, заняты только своими делами и не особенно охотно готовы променять удобства эмигрантской жизни на тяжелую службу в строю. О русских я уже не говорю. Некоторые из них готовы и с батюшкой Сталиным примириться» [3, л. 43].
Эмигрантские казачьи организации, стоявшие на позициях возрождения национальной России, не сразу заняли прогерманскую, профашистскую позицию. Тем более, что государства, принявшие их на своей территории — Югославия, Чехословакия, Франция были в напряженных отношениях с Германией, а затем сами стали жертвой фашистской агрессии. Но по мере усиления Германии большинство казаков-эмигрантов посчитало, что из двух зол — сталинский СССР и гитлеровская Германия — меньшим злом все же является Германия. К тому же нельзя забывать, что казаки на чужбине, как и вся белая эмиграция, оценивали СССР в духе Российского зарубежного съезда в Париже (апрель 1926 года): СССР — не Россия и вообще не национальное государство, а русская территория, завоеванная III Интернационалом. А отсюда легко следовал вывод, что возможен (а иногда и необходим) союз с иностранными силами, в частности с Антикоминтерновским пактом, для спасения России от власти коммунистов.
Большинство казачьих эмигрантских организаций не прислушалось к предостережениям А. И. Деникина о том, что для русских эмигрантов недопустимо сотрудничество с Германией и участие в иностранном вторжении в Россию.
Среди пораженцев особой активностью в борьбе против СССР, вплоть до участия в боевых действиях на стороне Германии, отличались сторонники вольно-казачьего движения (самостийники), прямо выступавшие за расчленение России и создание особого государства Казакии. Эта пораженческая теория самостийников была особенно ярко выражена еще до Второй Мировой войны в докладе Шамбы Балинова, с которым он выступил 29 марта 1936 года в Париже на публичном собрании, устроенном «Обществом ревнителей казачества». Характерно и название этого доклада — «Русское «оборончество» и казачье «пораженчество». В нем Шамба Балинов клеймил тех, кто «готов идти на поклон Сталину и вместе с ним казачьей кровью защищать целостность… русской территории» [2, с. 7].
О политической сущности этого движения писал генерал Е. И. Балабин в рукописи «О самостийниках» (март 1940 г.): «Самостийники составляют несколько враждующих между собой групп, но, в общем, их можно разделить на две различные части. К первой принадлежат фантазеры, мечтающие о создании самостоятельного казачьего государства — Казакии, независимого от России и от других европейских государств; им, создателям этого государства, должна принадлежать руководящая роль в будущей его жизни. Это политические честолюбцы, невежды, не знающие ни истории, ни
Исторические науки основ политического равновесия Европы. Послевоенный европейский режим внушил им надежду на реализацию их мечтаний: если на обломках бывшей Австрийской монархии возник ряд новых государств, то почему же из развалин Российской державы не выкроить для их удовлетворения казачью самостоятельную республику.
Другая часть самостийников более практична: они просто ищут иностранных нанимателей, которые за проповедь дробления нашей Родины готовы заплатить деньги, пусть небольшие, но все же достаточные, чтобы им вести праздную жизнь и играть роль политических деятелей» [3, л. 59].
Именно казаки-самостийники, создавшие в эмиграции «Казачье национально-освободительное движение» (КНОД), вели активную агитацию за отправку эмигрантов на Восточный фронт летом 1941 г., в дальнейшем активно сотрудничали с гестапо.
В целом тысячи казаков-эмигрантов воевали на стороне гитлеровцев в составе Охранного корпуса на Балканах и 15-го казачьего Кавалерийского корпуса фон Панвица, но не на советско-германском фронте, куда их не пустило командование вермахта, а в Югославии и в Северной Италии.
В заключение важно ответить на вопрос: оборончество и пораженчество (коллаборационизм) — это закономерность для эмиграции или исключительное явление, исторический феномен, характерный только для российской, в том числе казачьей эмиграции? Конечно, это в целом закономерность. Широко известно, что во Второй мировой войне участвовали многочисленные иностранные формирования Третьего рейха [4]. Но в казачьей эмиграции это явление имело свои особенности. Во-первых, оборончество в рядах казаков-эмигрантов было гораздо менее распространено, чем пораженчество, к тому же пораженчество как течение было более организованным, чем оборончество. Во-вторых, для большинства казаков-пораженцев война фашистской Германии против СССР была продолжением гражданской войны, попыткой хоть таким путем свергнуть ненавистную советскую власть, белоэмигранты хотели в первой половине 1940-х гг. взять реванш за поражение в 1918—1922 гг. В-третьих, в наши дни коллаборационизм казаков-эмигрантов вновь становится объектом острейшей идейной и общественно политической борьбы в России, когда сторонники П. Н. Краснова, Г. М. Семенова, Шкуро, Крыч-Гирея стараются изобразить их сотрудничество с оккупантами не как борьбу против своей Родины, против своего народа, а как борьбу исключительно против сталинизма. Все это выглядит крайне неубедительно, «шито белыми нитками».
Все отмеченные обстоятельства заставляют нас вновь и вновь обращаться к многим трагическим страницам истории Второй Мировой войны, чтобы не допускать их искажения.
Список литературы Оборончество и пораженчество в рядах казачьей эмиграции в период Второй мировой войны: исторический феномен или закономерность?
- Александров, К. Русские солдаты Вермахта: герои или предатели /К. Александров. — Москва : Яуза Эксмо, 2005. — 792 с.
- Балинов, Ш. Русское «оборончество» и казачье «пораженчество» /Ш. Балинов. — Париж : Ковыльные Волны, 1936. — 15 с.
- ГАРФ. Ф. 5671. Оп. 1. Д. 1.
- Дробязко, С. И. Иностранные формирование Третьего рейха: иностранцы на службе нацизма: история европейского коллаборационизма / С. И. Дробязко, О. В. Романько, К. К. Семенов. — Москва : АСТ Астрель, 2011. — 830 с.
- Дробязко, С. И. Казачьи части в составе Вермахта / С. И. Дробязко // Материалы по истории Русского Освободительного Движения (1941—1945 гг.). — Вып. 1. — Москва : Архив РОА, 1997. — С. 182—232.
- Дробязко, С. И. Политика коллаборационизма и казачий вопрос в годы Второй мировой войны / С. И. Дро-бязко //Наши вести. —1996. — № 445. — С. 13—15.
- Косик, В. И. Русская Югославия: фрагменты истории 1919—1944 / В. И. Косик // Славяноведение. — 1992. — № 4. — С. 20—32.
- Крикунов П. Н. Идеология и политика коллаборационизма в среде казачества в годы Второй мировой войны: автореф. дис. ... кант. ист. наук/П. Н. Крикунов. — Москва, 2004. — 25 с.
- Крикунов, П. Н. Казаки между Гитлером и Сталиным. Крестовый поход против большевизма / П. Н. Крикунов. — Москва : Яуза Эксмо, 2005. — 608 с.
- Мейснер, Д. И. Миражи и действительность: записки эмигранта / Д. И. Мейснер. — Москва : АПН, 1966. — 303 с.
- Переписка на исторические темы. Диалог ведет читатель. — Москва : Политиздат, 1989. — 494 с.
- Рудницкий, Ю. А. Другая жизнь и берег дальний... Русские в австралийской истории / Ю. А. Рудницкий. — Москва : Наука, 1991. — 191 с.
- Семиряга, М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны / М. И. Семиряга. — Москва : РОССПЭН, 2000. — 862 с.
- Смирнов, С. В. Отряд Асано. Русские эмигранты в вооруженных формированиях Маньчжоу-Го (1938— 1945) /С. В. Смирнов, А. М. Буяков. — Москва: ААлгоритм, 2015. — 320 с.
- Смыслов, О. С. Проклятые легионы: изменники Родины на службе Гитлера / О. С. Смыслов. — Москва : Вече, 2007. — 505 с.
- Тесемников, В. А. Российская эмиграция в Югославии (1919—1945 гг.) / В. А. Тесемников // Вопросы истории. —1988. — № 10. — С. 128—137.
- Цурганов, Ю. С. Белоэмигранты и Вторая мировая война: попытка реванша. 1939—1945 гг. /Ю. С. Цурганов. —Москва : Центрполиграф, 2010. — 285 с.