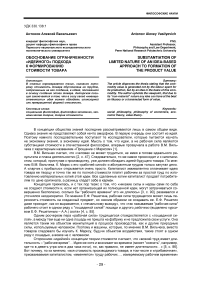Обоснование ограниченности «идейного» подхода к формированию стоимости товара
Автор: Антонов Алексей Васильевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 13, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье опровергается тезис, согласно которому стоимость товара обусловлена не трудом, затраченным на его создание, а идеей, положенной в основу создания этого товара. Авторская позиция заключается в том, что в силу своей «невещественности» идея может обладать иллюзорной или превращенной формой стоимости.
Социальная философия, философия экономики, экономическая теория, теория стоимости
Короткий адрес: https://sciup.org/14936002
IDR: 14936002 | УДК: 330.138:1
Текст научной статьи Обоснование ограниченности «идейного» подхода к формированию стоимости товара
В концепции общества знаний последние рассматриваются лишь в самом общем виде. Однако знания не представляют собой нечто аморфное. В первую очередь они состоят из идей. Поэтому намного последовательнее поступают те исследователи, которые пытаются изучать не экономику знаний, а экономику идей. Мысль о том, что идеи, а не рабочая сила являются субстанцией стоимости в отечественной философии, впервые прозвучала в работе В.М. Виль-чека с характерным названием «Прощание с Марксом» [1].
В.М. Вильчек считал, что «человек не может трудиться, не имея в голове идеального результата и плана деятельности» [2, с. 47]. Следовательно, то же самое происходит и с капиталистом, который, приступая к производству, уже должен обладать идеей будущего товара. По мнению В.М. Вильчека, К. Маркс с его «рабочей силой» и абстрактным трудом только запутал дело. А «ларчик с прибылью» открывается очень просто. Капиталист эквивалентно оплачивает идею товара ее творцу и точно так же по полной стоимости платит рабочим за простой труд по изготовлению материальных копий этой идеи. Все сделанные копии капиталист продает потребителям по цене оригинала, а разницу кладет себе в карман.
Концепция прижилась, и с тех пор тезис о том, что «никакие силы и нервы сами по себе не создают стоимости и, если нет организующей их полноценной идеи, могут затрачиваться совершенно бесполезно, сколько бы "рабочего времени" это ни длилось» [3, с. 90], развивался и уточнялся неоднократно. По мнению Е.Ф. Решетина, рабочая сила трудящегося может лишь переносить стоимость на созданный предмет, но никоим образом не создавать ее. Е.Ф. Решетин даже приходит, как он выражается, к «печальному выводу», что «так называемая "рабочая сила" рабочего стоит в одном ряду с "лошадиной силой" лошади и другого рабочего (выделено курсивом Е.Ф. Решетиным - А.А.) скота» [4, с. 85].
Одним росчерком пера «рабочая сила» трудящегося отождествляется с «лошадиной силой», а между тем еще ни одна лошадь не пришла на фабрику и не предложила свои услуги. Она является таким же объектом манипуляций в процессе производства, как и другие природные силы, используемые человеком. Поэтому и машины, которые, по мнению В.М. Вильчека, вместо товаров следовало бы изучать К. Марксу, будучи объектом воздействия, также стоят в одном ряду с лошадью, а вовсе не с человеком.
Сторонники «идейной» концепции теории стоимости считают, что «всякий труд имеет длительность - "рабочее время"... Идея же хотя и возникает во времени (может "осенить", например, где-то в девять утра или в два часа ночи), но, как правило, не имеет длительности...» [5, с. 86]. Вот почему, по их мнению, «вся стоимость производимого товара, в том числе и «прибавочная», присваиваемая капиталистом, «вменяется» труду рабочих…, измеряемому рабочим временем»
[6, с. 87]. Тогда как на самом деле процесс создания прибавочной стоимости представляет собой присоединение к труду неосязаемой и не измеряемой количеством рабочего времени идеи.
Но если идею нельзя измерить количеством рабочего времени, то непонятно, каким образом ее «растворение» в продукте труда может повлиять на его стоимость? Разве, следуя этой логике, мы не должны допустить, что и в готовом продукте идея останется столь же неощутимой количественно. Разве не об этом писал в свое время Джордж Беркли (1685–1753): «На что может идея походить, кроме как на другую идею; мы не можем сравнить ее ни с чем другим; звук похож на звук, а цвет – на цвет» [7, с. 47].
Сторонники «идейной» теории стоимости утверждают, что «творчество никаким самым хитрым образом невозможно свести к марксову "простому труду"» [8, с. 91]. «Сколько «простого труда» надо затратить, – патетически восклицает В.М. Вильчек, – чтобы написать на листке бумаги: "Я помню чудное мгновенье"? Открыть: "E=mc2"?» [9, с. 91].
Но если создаваемые творчеством идеи невозможно измерить «простым трудом», то в таком случае на каком же основании вообще делается вывод о том, что идеи образуют стоимость? А. Смит и К. Маркс сравнивали продукты простого и сложного труда потому, что до них это уже делал на практике обмен. При этом сам обмен рассматривался в теории исключительно в качестве добровольного процесса. Однако в не меньшей степени он является также и внешним принуждением. Не будь в обществе всеобщего разделения труда, которое, как показал А. Смит, делает нас относительными монополистами, трудно представить себе, какая же сила могла бы заставить нас «абстрагироваться» от того, что в одних продуктах содержится больше качественного труда, а в других – меньше.
В классической теории обмен во всех случаях рассматривается в качестве эквивалентного: ведь за меньшее количество продуктов сложного труда мы получаем большее количество продуктов труда простого. К. Маркс считал, что в этом нет никаких затруднений: единицу времени труда высшей квалификации надо просто приравнять к единице времени труда квалификации низшей, умноженной на некоторый коэффициент. «Но как определить эти коэффициенты? Напрасно мы стали бы искать способа определения этих коэффициентов у Маркса. Обычно для этого предлагают сравнить стоимость воспитания простого и квалифицированного рабочего. Нельзя сказать, чтобы это была легкая задача. Если же высшая квалификация обусловлена природными дарованиями, хотя бы и не какого-либо исключительного свойства, то указанный метод и совсем неприменим» [10, с. 182].
Да и обычная практика подсказывает, что даже тысяча малоквалифицированных работников не в силах порой заменить труд одного-единственного высококвалифицированного, например хирурга. Как говорится в старинной индийской поговорке, «даже из тысячи мышей нельзя сложить одного слона».
Всякое научное утверждение имеет границы своей применимости. Представители классической школы вели речь о соизмеримости простого и сложного труда только применительно к случаю обмена товаров, хотя и не всегда оговаривали это особо. Сторонники же «идейной» теории стоимости распространяют эту соизмеримость также и на идеи, по сути не имеющие товарной формы. Как бы расширительно мы не толковали «идею», все-таки она всегда останется продуктом не вещественным, а значит, и не товарным. Как иронически высказался по этому поводу известный российский социолог А.Б. Вебер, «никого не насытит «идея бифштекса» – его надо все-таки приготовить» [11, с. 108–109].
Обращаем мы на это внимание или нет, но идея имеет качественно иную социально-экономическую природу. В силу своей «невещественности» идея способна в лучшем случае пребывать в иллюзорной или кажущейся форме стоимости. Ее действительной социально-экономической природой остается ценность, измеряемая степенью качества, а не количеством труда.
Ссылки:
-
1. Вильчек В.М. Прощание с Марксом. (Алгоритмы истории). М., 1993. 222 с.
-
2. Там же. С. 47.
-
3. Решетин Е.Ф. Тайна «раскрытой тайны» // Свободная мысль. 1994. № 4. С. 81–95.
-
4. Там же. С.85.
-
5. Там же. С.86.
-
6. Там же. С.87.
-
7. Беркли Д. Философские заметки // Беркли Д. Сочинения. М., 1978. С. 39–47.
-
8. Вильчек В.М. Указ. соч. С. 91.
-
9. Там же.
-
10. Бруцкус Б.Д. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта // Новый мир. 1990. № 8. С. 174–212.
-
11. Вебер А.Б. Тайна одной гипотезы, или сокрытые истины // Свободная мысль. 1994. № 9. С. 104–115.